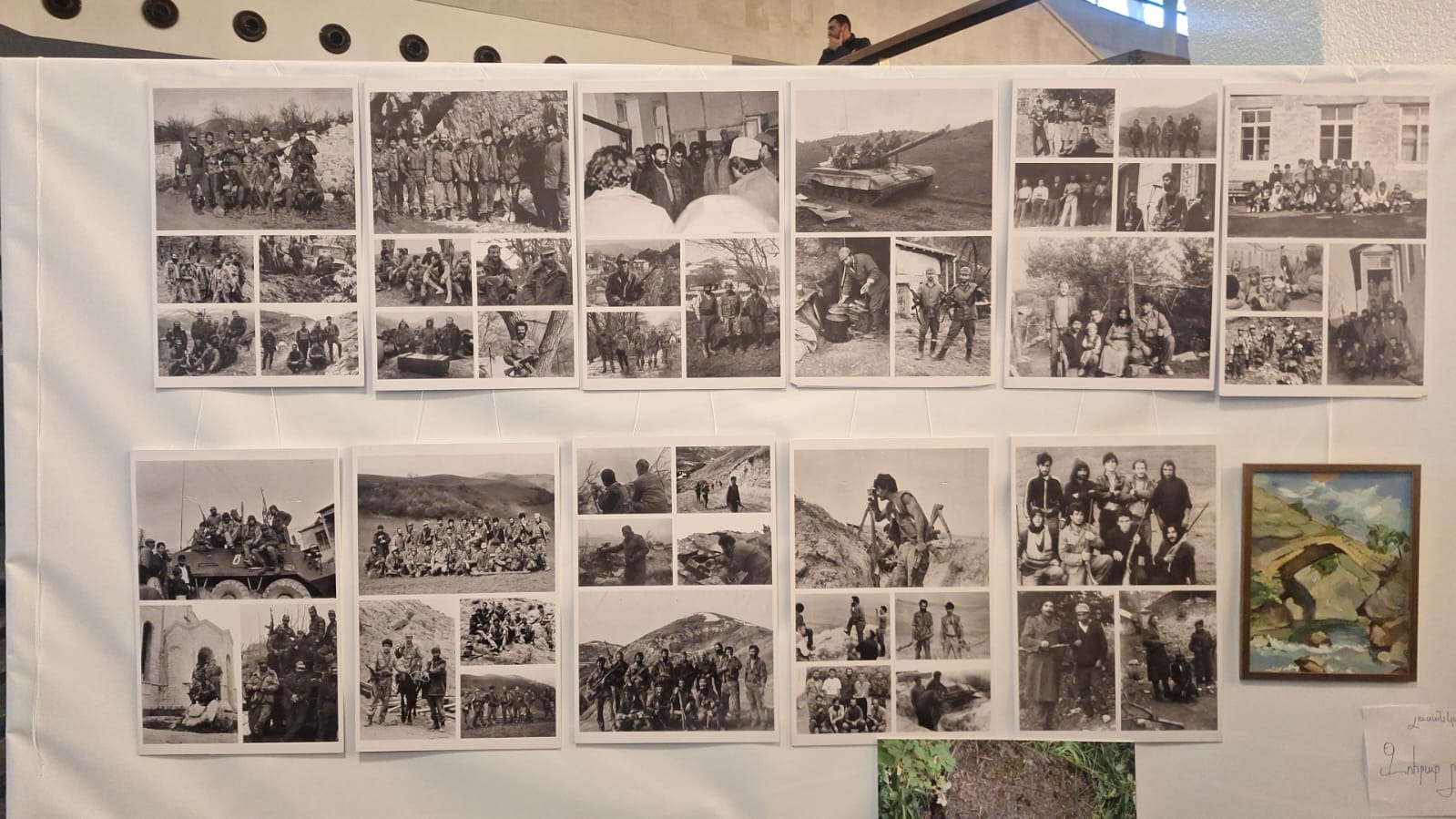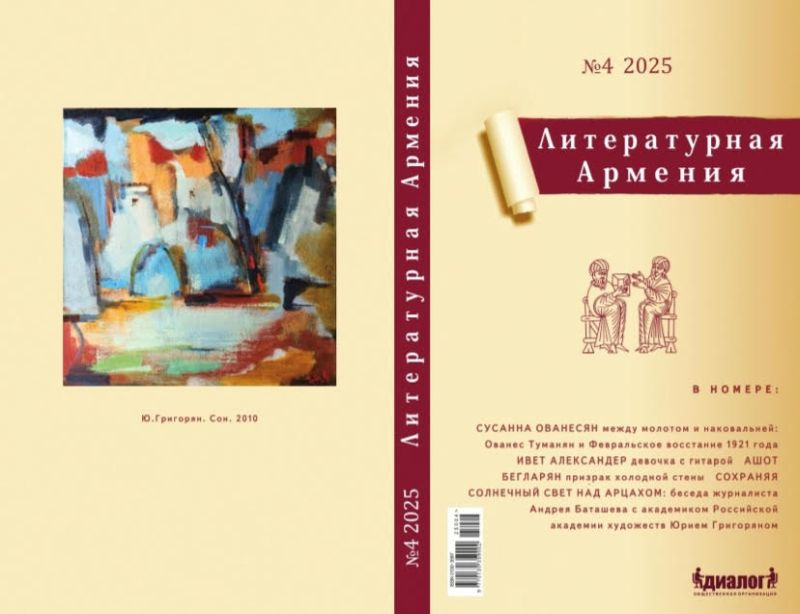В 1974 году заслуженный деятель искусств Армении Саркис Мурадян написал на стене вестибюля в здании Дома культуры села Апага Армавирской области монументальную фреску «Сасунцы».
ОДИН ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРМЯНСКОЙ ЖИВОПИСИ середины XX — начала XXI вв. изобразил не конкретные события, а аллегорические, обобщающие образы, наделенные символической мощью. Центральная фигура трехчастной композиции — мать с младенцем изображена в традиционной позе Богоматери. Но весь облик, преисполненный храбрости, говорит о ее решимости защищать родной дом. Столь же символичны открытая на первом плане книга «Сасунские безумцы», винтовка, прислоненная к колыбели, хачкар и контуры традиционного архитектурного памятника. В правой части фрески бойцы несут на плечах погибшего в бою товарища, это Геворг Чауш. В левой — картина боя, один из участников которого полководец Андраник. В работе над фреской Саркису Мурадяну, известному своими изысканиями в области армянской истории, помогали его помощники Г.Акопян и Г.Смбатян.
Село это было выбрано художником не случайно. В 1919 году оно было заселено армянами, спасшимися от Геноцида из исторического Сасуна. Конкретно из сел Нич, Кндзу, Бугнот, Хизан, Тнки, Мрцан, Кашах, Хути, Гелонк района Моткан провинции Битлис в Западной Армении. В 90-е годы XIX и в начале XX вв. сасунцам удавалось организовывать самооборону и противостоять нападениям османской армии, однако в 1915 году в результате неравного боя с 30-тысячной турецкой армией из 60 тысяч жителей Сасуна спаслось лишь 15 тысяч. Бежав в Восточную Армению, они обосновались в этом селе. Основанный здесь в 1935 году колхоз «Будущее за нами» уже после установления независимости Армении дал селу новое название — Апага.
Жители Апага восприняли картину как символ своей истории. Народным достоянием стала она и для нынешнего поколения апаговцев. В свое время их отцам удалось защитить фреску от поползновений советской власти уничтожить работу из-за ее «националистического» содержания. И вот сегодня фреска вновь нуждается в защите. За 43 года, прошедшие с момента написания картины, она подверглась влиянию времени, пережила холод и разруху 90-х, оставивших на ней свои следы. Стена, на которой изображена фреска, покрыта сетью мелких трещин, большая трещина проходит по всей вышине левой части композиции. В нескольких местах краска осыпалась, образовались большие и малые «проплешины». При побелке потолка мел попал на картину, так что правая ее половина, покрытая тонким слоем мела, смотрится как бы в тумане.
РУКОВОДСТВО СЕЛА НЕОДНОКРАТНО ОБРАЩАЛОСЬ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ органам с просьбой решить проблему: отреставрировать картину. Но привлечь внимание к ее неблагополучному состоянию пока не удалось. Фреска может погибнуть, а допустить этого никак нельзя. Народный художник Армении, своеобразный новатор в изобразительном искусстве той эпохи, Саркис Мурадян оставил в ней глубокий след, в том числе и этим монументальным произведением искусства. Нельзя предать забвению и историческую память о сасунцах, нашедшую свое отражение в этой поистине народной фреске. К тому же бывший Дворец культуры и ныне главное здание села, в нем по-прежнему проводятся все торжественные мероприятия, концерты и даже свадьбы.
Семья Саркиса Мурадяна, желая помочь апаговцам в их битве за фреску, выпустила буклет «Сасунцы», в надежде, что общественность Армении тоже забьет тревогу. Тем более что эта фреска «одна из наиболее удачных и высококачественных работ в области монументальной живописи, когда-либо созданных в Советской Армении, с точки зрения идейной и образной глубины и актуальности содержания, а также выразительности художественных средств». Это мнение членкора Национальной Академии наук Армении, искусствоведа Арарата Агасяна разделяют и другие специалисты.