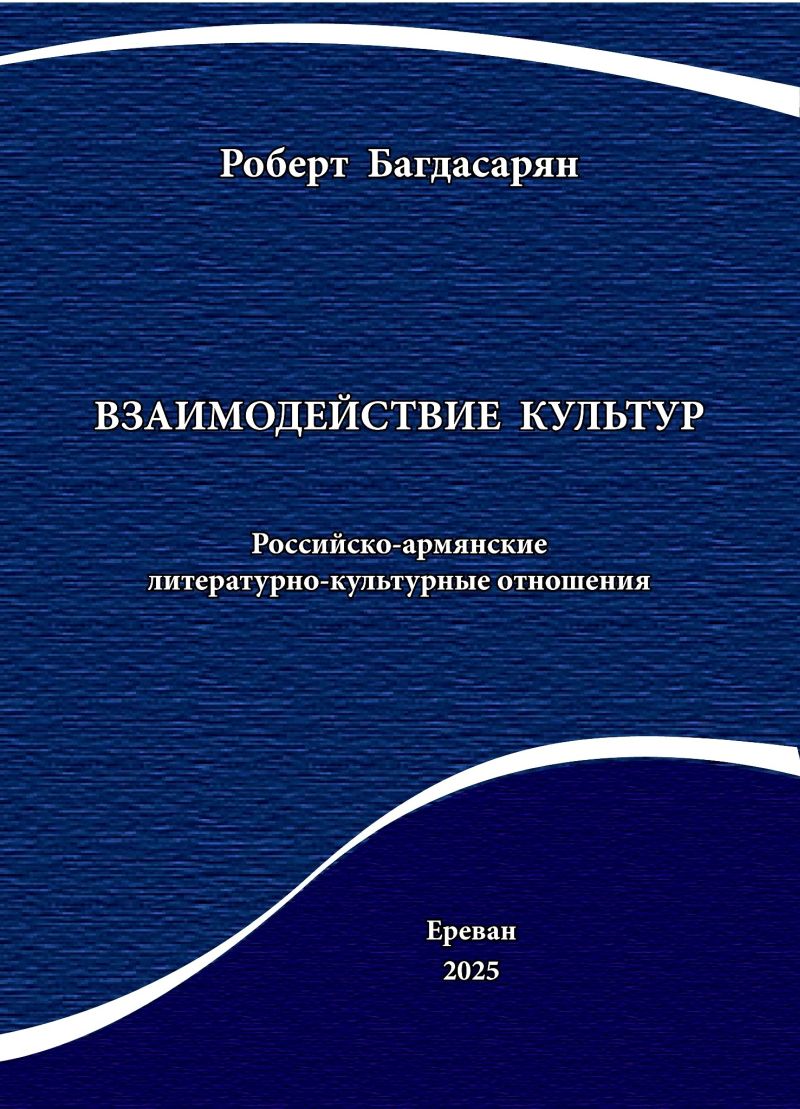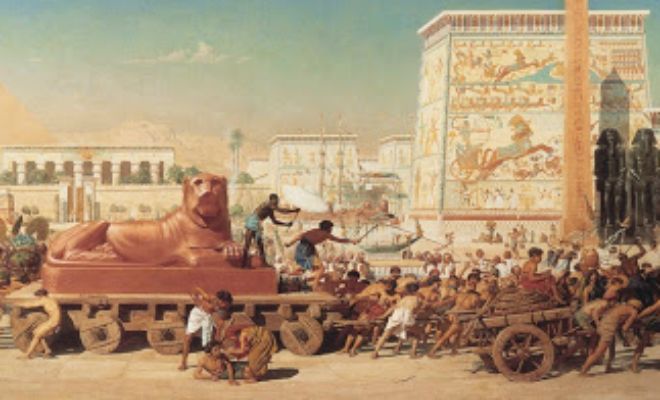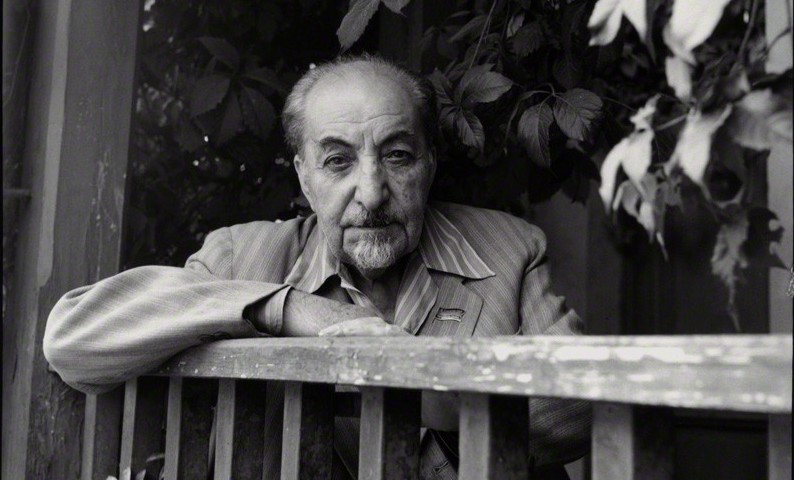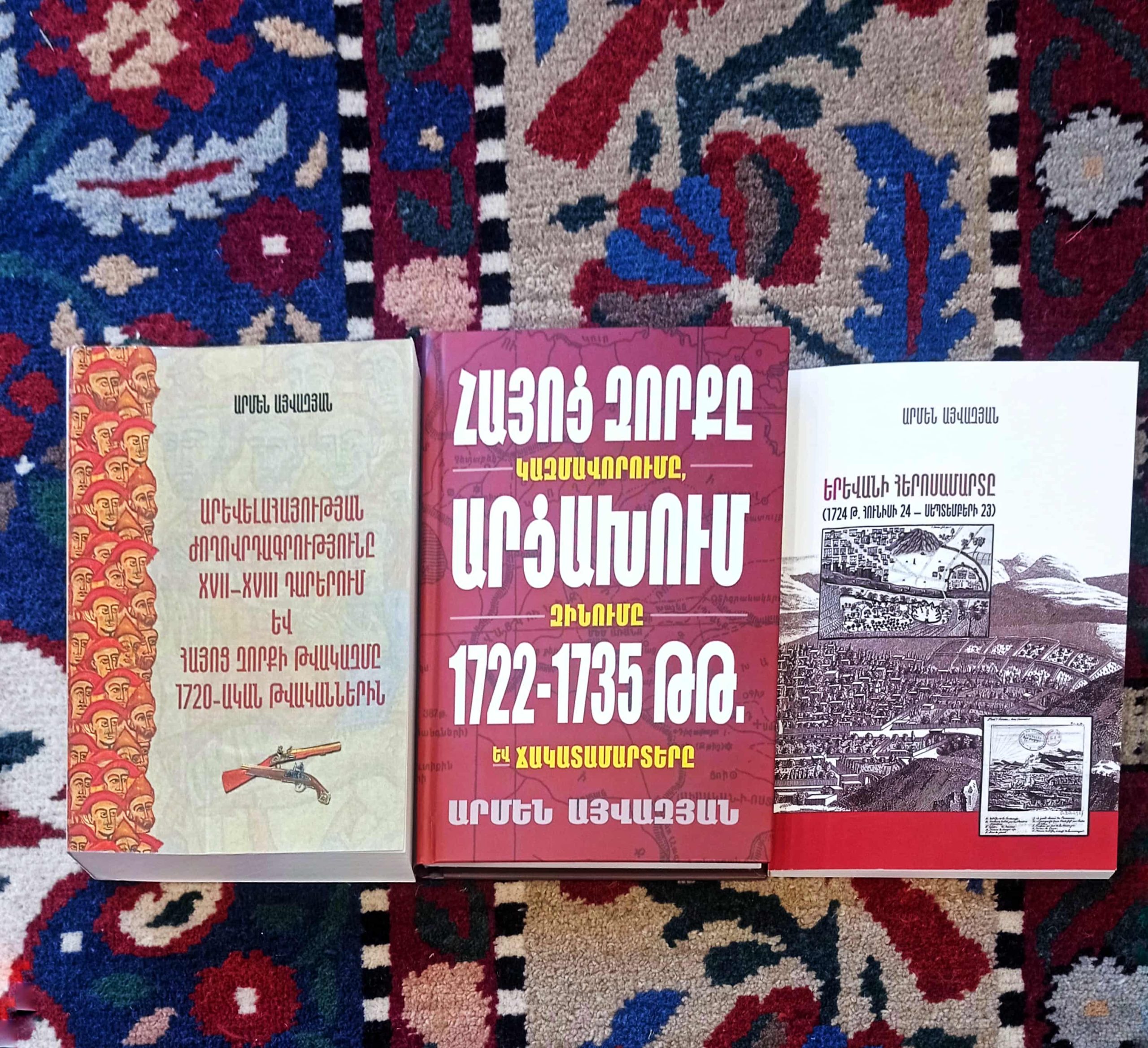Я написал этот короткий текст, находясь в Ереване, но под сильнейшим впечатлением от четырехдневного пребывания в Гюмри. Это своего рода конспект будущего, надеюсь, гораздо более полного исследования этого города в жанре, который я называю автоурбанология и в котором уже была написана моя книга «Иереван. Этюды о духе места». Я в путешествии, и у меня мало времени для детального изучения тех сюжетов, к которым я обращусь ниже, всего лишь обозначив несколько важных печальных вех, сказавшихся на судьбе этого наиболее ценного исторического города нынешней Армении в последний век его сложной истории.
Поистине удивительно, что, несмотря на их комплексное негативное воздействие, эти травмы не только не привели к уничтожению духа города, но, по моему мнению, его укрепили. И еще. Я не поясняю здесь некоторые понятия и реалии, априори понятные армянским читателям. А для российских, в случае их интереса, обещаю сделать это несколько позже.
Итак.
1. ГЕНОЦИД: СТРАШНЫЕ СОБЫТИЯ в окрестностях Александрополя в 1918-1920 годах. «Джарди-дзор» — народный мемориал жертвам резни, происшедшей к северо-востоку от города у дороги на Караклис (ныне Ванадзор), казармы русской армии, ставшие в 20-х годах Городом сирот — самым большим сиротским приютом в мире на 30000 детей (сейчас опять казармы российской военной базы), — знаки этой неизгладимой травмы.
2. Переименование АлександрополЯ в Ленинакан в 1924. Бог бы с ним, с именем (горожане с присущим им сарказмом очень скоро сведут «город Ленина» к «широкому городу» — Леннагану, что не помешает им широко отметить 60-летний юбилей этого события в 1984 г. — здоровый ленинаканский цинизм). Но эта смена имени — знак смены городского строя, официального перехода от свободного приграничного города ремесленников и торговцев, к концу XIX века ставшего главным городом Восточной Армении, к советскому городу партийцев, военных, рабочих и переезжавших в него крестьян. Подобную травму пережили все старые города, вошедшие в границы СССР. Выжили и остались полноценными городами далеко не все. Но этот город, кажется, выжил благодаря устойчивости его «неофициальных» социально-культурных основ.
3. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 22 ОКТЯБРЯ 1926 ГОДА. Если число его людских жертв было относительно невелико (300 человек), то масштаб материальных разрушений, по-видимому, был очень большим. Во всяком случае в титрах хроники землетрясения, снятой основателем армянского кинематографа Амо Бекназаряном, значится: «В три минуты Ленинакан был разрушен». Город был воссоздан и развит по эскизам А.Таманяна и очень корректному по отношению к старой городской среде генеральному плану М.Мазманяна, обновлявшемуся и вполне успешно реализованному в годы Второй Республики.
 4. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 7 ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА. Ленинакан, в своего рода «легкой» конкуренции с Ереваном, дорос к этому моменту до официального статуса полноценного «второго» города одной из наиболее развитых советских республик. Но после трагедии, унесшей более 25 тысяч жизней, он так до конца и не восстановился. Многие начатые в 1989-1990 годах жилищные проекты брошены и руинизированы. Пять тысяч семей до сих пор живут здесь в практически неблагоустроенных времянках — т.н. домиках. Население города снизилось с 240 тысяч жителей в 1988 г. (по неофициальным оценкам) до примерно 70-80 тысяч в 2016 г.
4. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 7 ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА. Ленинакан, в своего рода «легкой» конкуренции с Ереваном, дорос к этому моменту до официального статуса полноценного «второго» города одной из наиболее развитых советских республик. Но после трагедии, унесшей более 25 тысяч жизней, он так до конца и не восстановился. Многие начатые в 1989-1990 годах жилищные проекты брошены и руинизированы. Пять тысяч семей до сих пор живут здесь в практически неблагоустроенных времянках — т.н. домиках. Население города снизилось с 240 тысяч жителей в 1988 г. (по неофициальным оценкам) до примерно 70-80 тысяч в 2016 г.
5. Распад Союза — и последовавшее вскоре закрытие и фактическое уничтожение практически всех сорока (за исключением пары пивзаводов) промышленных предприятий города, тесно включенных в экономику (ну, какая уж была) этой своеобразной «мягкой» империи. Вслед за этим — массовая безработица и бегство из города активных жителей.
6. КарабахскаЯ война, которую АрмениЯ выиграла, а этот город, переименованный к этому времени в Гюмри, проиграл — из-за закрытия армяно-турецкой границы. В дальнейшем гиперцентрализованном и гиперполитизированном развитии Третьей Республики достойного места для Гюмри почему-то не оказалось.
7. Страшное, так до конца и не раскрытое убийство семьи АветисЯн из семи человек российским военнослужащим Пермяковым в январе 2015 года. Отношение к русским здесь и в Армении в целом просто не могло не измениться после крайне непрозрачного расследования этого преступления. Отмечу, что на личном уровне я никаких перемен не заметил — но это не значит, что их не произошло.
<vd>Все перечисленное — урбанистический фон того, что меня волнует в этом городе больше всего, а именно: удивительно сохранившейся живой исторической среды. А сохраняется она там не только потому, что в городе просто нет денег на местные «северные проспекты», но и — для меня это главное! — потому, что есть в нем очень много хороших людей, которые хотят его сохранить и делают это.
Хочется верить, что раны этого города не смертельны. Ведь не случайно, что его символическим центром является собор Семи Ран Св. Богоматери — один из немногих никогда не закрывавшихся храмов Армении.
Андрей ИВАНОВ, профессор Международной академии архитектуры
1. ГЕНОЦИД: СТРАШНЫЕ СОБЫТИЯ в окрестностях Александрополя в 1918-1920 годах. «Джарди-дзор» — народный мемориал жертвам резни, происшедшей к северо-востоку от города у дороги на Караклис (ныне Ванадзор), казармы русской армии, ставшие в 20-х годах Городом сирот — самым большим сиротским приютом в мире на 30000 детей (сейчас опять казармы российской военной базы), — знаки этой неизгладимой травмы.
2. Переименование АлександрополЯ в Ленинакан в 1924. Бог бы с ним, с именем (горожане с присущим им сарказмом очень скоро сведут «город Ленина» к «широкому городу» — Леннагану, что не помешает им широко отметить 60-летний юбилей этого события в 1984 г. — здоровый ленинаканский цинизм). Но эта смена имени — знак смены городского строя, официального перехода от свободного приграничного города ремесленников и торговцев, к концу XIX века ставшего главным городом Восточной Армении, к советскому городу партийцев, военных, рабочих и переезжавших в него крестьян. Подобную травму пережили все старые города, вошедшие в границы СССР. Выжили и остались полноценными городами далеко не все. Но этот город, кажется, выжил благодаря устойчивости его «неофициальных» социально-культурных основ.
3. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 22 ОКТЯБРЯ 1926 ГОДА. Если число его людских жертв было относительно невелико (300 человек), то масштаб материальных разрушений, по-видимому, был очень большим. Во всяком случае в титрах хроники землетрясения, снятой основателем армянского кинематографа Амо Бекназаряном, значится: «В три минуты Ленинакан был разрушен». Город был воссоздан и развит по эскизам А.Таманяна и очень корректному по отношению к старой городской среде генеральному плану М.Мазманяна, обновлявшемуся и вполне успешно реализованному в годы Второй Республики.
 4. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 7 ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА. Ленинакан, в своего рода «легкой» конкуренции с Ереваном, дорос к этому моменту до официального статуса полноценного «второго» города одной из наиболее развитых советских республик. Но после трагедии, унесшей более 25 тысяч жизней, он так до конца и не восстановился. Многие начатые в 1989-1990 годах жилищные проекты брошены и руинизированы. Пять тысяч семей до сих пор живут здесь в практически неблагоустроенных времянках — т.н. домиках. Население города снизилось с 240 тысяч жителей в 1988 г. (по неофициальным оценкам) до примерно 70-80 тысяч в 2016 г.
4. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 7 ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА. Ленинакан, в своего рода «легкой» конкуренции с Ереваном, дорос к этому моменту до официального статуса полноценного «второго» города одной из наиболее развитых советских республик. Но после трагедии, унесшей более 25 тысяч жизней, он так до конца и не восстановился. Многие начатые в 1989-1990 годах жилищные проекты брошены и руинизированы. Пять тысяч семей до сих пор живут здесь в практически неблагоустроенных времянках — т.н. домиках. Население города снизилось с 240 тысяч жителей в 1988 г. (по неофициальным оценкам) до примерно 70-80 тысяч в 2016 г.
5. Распад Союза — и последовавшее вскоре закрытие и фактическое уничтожение практически всех сорока (за исключением пары пивзаводов) промышленных предприятий города, тесно включенных в экономику (ну, какая уж была) этой своеобразной «мягкой» империи. Вслед за этим — массовая безработица и бегство из города активных жителей.
6. КарабахскаЯ война, которую АрмениЯ выиграла, а этот город, переименованный к этому времени в Гюмри, проиграл — из-за закрытия армяно-турецкой границы. В дальнейшем гиперцентрализованном и гиперполитизированном развитии Третьей Республики достойного места для Гюмри почему-то не оказалось.
7. Страшное, так до конца и не раскрытое убийство семьи АветисЯн из семи человек российским военнослужащим Пермяковым в январе 2015 года. Отношение к русским здесь и в Армении в целом просто не могло не измениться после крайне непрозрачного расследования этого преступления. Отмечу, что на личном уровне я никаких перемен не заметил — но это не значит, что их не произошло.
<vd>Все перечисленное — урбанистический фон того, что меня волнует в этом городе больше всего, а именно: удивительно сохранившейся живой исторической среды. А сохраняется она там не только потому, что в городе просто нет денег на местные «северные проспекты», но и — для меня это главное! — потому, что есть в нем очень много хороших людей, которые хотят его сохранить и делают это.
Хочется верить, что раны этого города не смертельны. Ведь не случайно, что его символическим центром является собор Семи Ран Св. Богоматери — один из немногих никогда не закрывавшихся храмов Армении.
Андрей ИВАНОВ, профессор Международной академии архитектуры