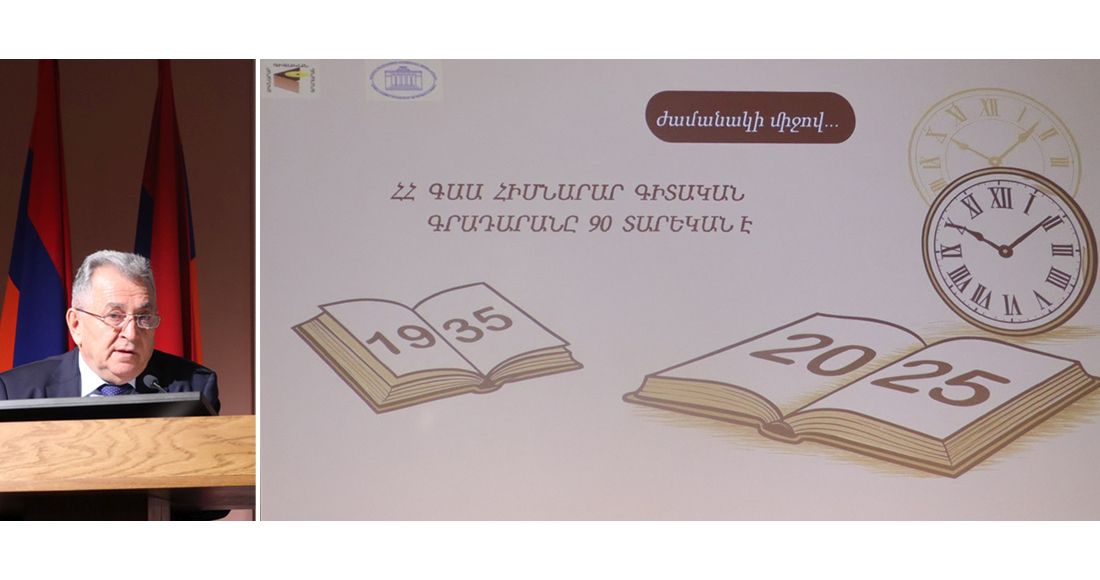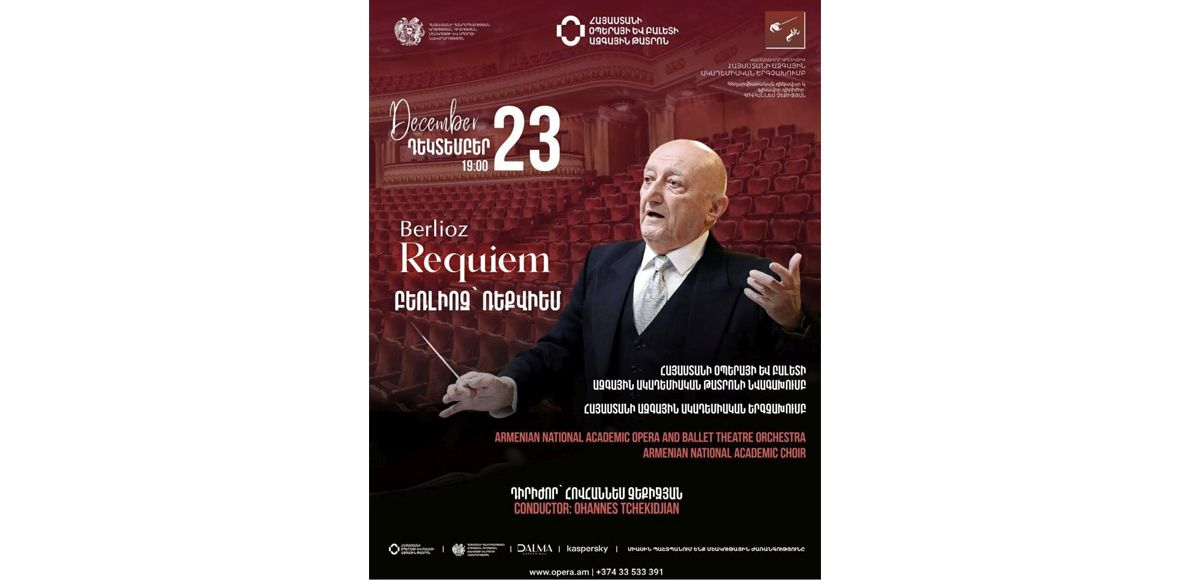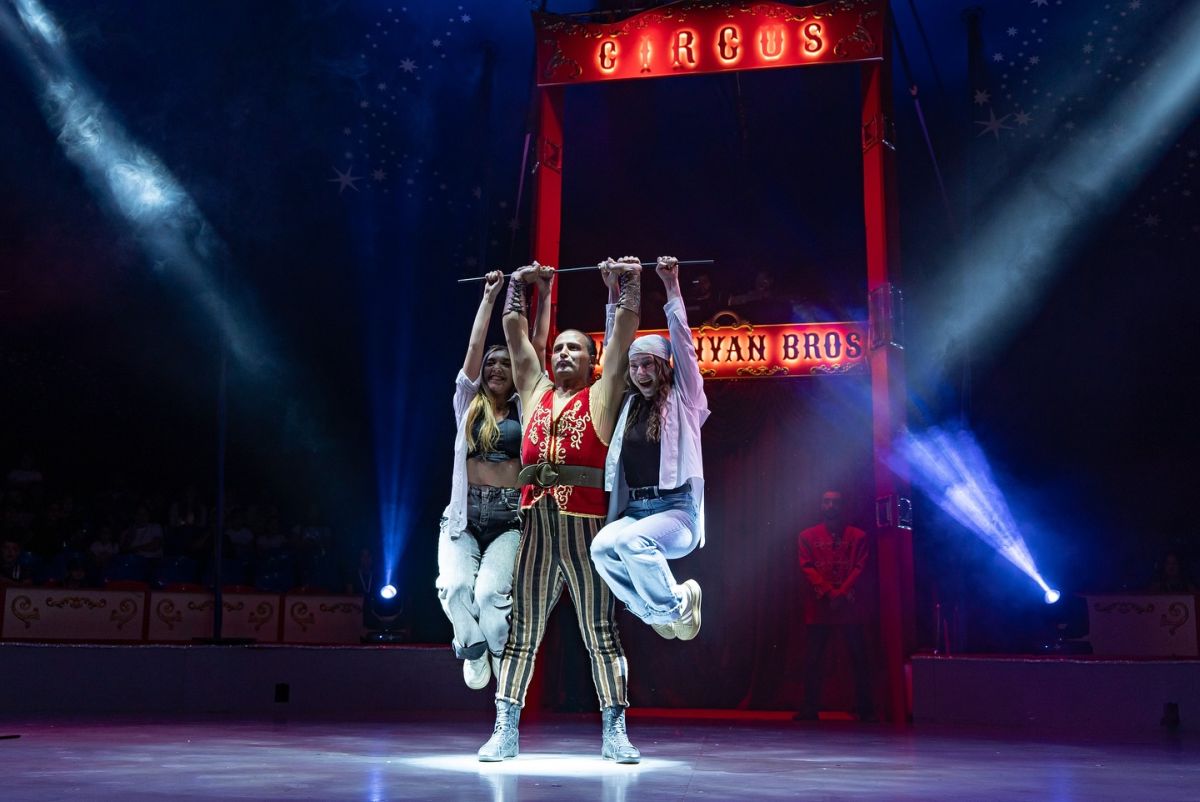Ванадзорский государственный драматический театр им. Ованнеса Абеляна открыл свой очередной, 84-й сезон. Сезон крайне ответственный – он будет проходить под знаком 150-летия великого артиста, чье имя театр носит с гордостью.
Вот и премьера, которой абеляновцы отметили начало столь важного для них года, сразу взяла планку высокую – как в смысле художественном, так и в смысле наполнения. На сцене руководимого им театра народный артист РА Ваге ШАХВЕРДЯН поставил спектакль «Один час памяти» по пьесе Карине ХОДИКЯН, которая посвящена памяти жертв Геноцида армян.
ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА – ВСЕГДА ПРАЗДНИК. ТОЧНЕЕ, ВСЕГДА праздник для Ваге Шахвердяна. А уж он-то умеет позаботиться о том, чтобы праздник оказался всеобщим. Поэтому, прежде чем начался спектакль, под звуки хачатуряновского вальса из «Маскарада» — за многие годы режиссер отработал зрительскую реакцию на него: под звуки этого вальса начинается чудо театра – на ванадзорскую сцену вышли ее мастера. Мастера старшего поколения. Мастера – каждый с красной гвоздикой в руке.
«Дорогие наши ванадзорцы, дорогие гости, — обратился Ваге Суренович к публике, которая до отказа заполнила в тот вечер зал. – Мы начинаем очень ответственный для нас сезон. В этом году мы отмечаем 150-летие великого Абеляна. Не случайно наши актеры вышли на сцену с красными гвоздиками. Это был любимый цветок Абеляна, который в бутоньерке всегда украшал лацкан его пиджака. Мы долго думали и решили не ограничиваться очередным юбилейным вечером, от которых все уже подустали. Вместо этого в первую неделю октября в Ванадзоре пройдет театральный фестиваль спектаклей, поставленных по пьесам, в которых блистал когда-то Ованнес Абелян. К нам приедут Национальный театр имени Сундукяна, Русский театр имени Станиславского, наши театры Тбилиси и Степанакерта. «Из-за чести», «Горе от ума», «Пепо», другие замечательные спектакли. Надеюсь, это будет настоящий театральный праздник!»
Потом актеры спустились в зал, и на сей раз они дарили цветы своему зрителю. Красные гвоздики – как стиль и как память. Потом свет в зале погас и началось действо.
«ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ Я ПЕРЕЧИТАЛ МНОГО ПЬЕС, ПОСВЯЩЕННЫХ ГЕНОЦИДУ, — рассказывает Ваге Шахвердян. — Как правило, авторы сосредотачиваются на резне, зверствах, дикости, в материале обязательно присутствуют турки. В этой пьесе, как видите, ни одного турка нет. Это история одной семьи – с ее, казалось бы, раз и навсегда установившимся укладом, отношениями, теплотой и любовью, история ее неслучившихся надежд, ее неслучившейся жизни. Именно этим она меня и увлекла».
Увертюра пьесы Карине Ходикян «Один день памяти», кажется, совсем о другом – как говорится, ничто не предвещает… Какой-то форум медиков-нейрохирургов, какие-то рассуждения о возможностях человеческого мозга. А потом в какую-то минуту почти профессионально-терминологические постулаты незаметно заканчиваются. И начинается совсем иной разговор – авторский. О памяти – исторической и человеческой, о совести и достоинстве, о трагедии жертвы и даже о трагедии палача. В какую-то минуту в кулуары царства медицины, науки, реализма входит воображение, фантазия, ирреальность – входит девочка, своеобразная Алиса, которая уводит главного героя в тревожное, волнующее и все равно прекрасное Зазеркалье. Сквозь призму этого зеркального стекла, сквозь призму прошедших ста лет благополучному гражданину США, молодому врачу Андре – Андранику доведется лицом к лицу столкнуться с жизнью после и одновременно до неслучившейся жизни…
Можно не сомневаться, что именно этот драматургический ход, точнее, переход из настоящего в прошлое, из яви в сон, в сон золотой, и увлек Ваге Шахвердяна, разбудил его неоскудевающее творческое воображение. И из конкретно бытового конференц-зала режиссер перенес действие высоко-высоко – прямо в небеса. А прежде, чем поведать зрителям трагическую историю славного рода, он словно пролистнул перед ним семейный альбом. В огромной раме, прорезь которой – силуэт Мадонны с младенцем или просто земной женщины с ребенком на руках, – проплывали фотографии. Яркие, утонченные, одухотворенные лица мужчин во фраках и галстуках-ленточках, женщин, скорее, дам с камеями, прихватившими высокие воротнички. Наконец, одна фотография остановилась и… ожила.
ЭТУ КАРТИНУ МОЖНО БЫЛО БЫ НАЗВАТЬ ЛУБКОМ, НО СЛЕДУЕТ – ФРЕСКОЙ. Изысканной композицией армянского святого семейства. В центре главный человек в семье, бабушка, чей головной убор — единственный, без доморощенной фольклорности национальный элемент – словно венчает картину. Сын, невестка, юноша и девушка – старшие дети, дочь-малышка и служанка. Та самая, благодаря которой из этой семьи спасся единственный ребенок. Кипельно-белые изысканные костюмы респектабельных, благополучных людей, у каждого на плече голубка как символ мира, миролюбия, может быть, святости. И белые лица. Словно припорошенные той мукой, из которой пекла свое коронное блюдо – гату, соленую гату – бабушка… Художником по этим изысканным костюмам выступил, кстати, сам режиссер.
«Да, почему-то так получилось. Хотя нет, этому спектаклю предшествовал «Злой дух». В последнее время мне так видится визуальный образ спектакля – в единой цветовой гамме. И еще для меня было очень важно, чтобы эта семья была носителем истинно аристократического духа армян», — говорит Ваге Суренович.
Визуальный образ спектакля не просто прекрасен – он полон благородства и достоинства. Воспоминания о страшной резне, о зверье в человеческом обличье здесь выражены в немногих, но очень ярких картинах, экспрессия которых рождается из игры света и острой, какой-то пронзительной пластики актеров. Память о людях – аристократах не только по происхождению, образованию, но духу – вот главная тема спектакля, его лейтмотив, который звучит нежным, оплакивающим голосом скрипки. Музыкальным сопровождением к «Одному дню памяти» стал знаменитый саундтрек из «Списка Шиндлера».
В этом спектакле есть главный персонаж, но нет главной роли. Эдгару Кочаряну, Асмик Алексанян, Алле Дарбинян, Артуру Папикяну, Армине Вермишян, Арману Саканяну и маленькой Мэри предстояло сыграть небольшие драматические роли, но вдохнуть трепет жизни, любви и надежд, вдохнуть драматизм в персонажей ожившей фрески. И справились они с этим замечательно. Опустится занавес, а перед глазами еще долго будет стоять Асмик Алексанян – бабушка с гордой осанкой и царственным жестом. Будут помниться глаза Армине Вермишян – последний брошенный взгляд на жениха. Будет помниться Арман Саканян – юноша, мечтавший стать врачом и спасать жизни, но успевший лишь на полминуты продлить жизнь матери, которую закрыл собой… И уж точно будет помниться прекрасное кочари, не танец даже, а образ танца, придуманный Ваге Шахвердяном, который под звук все тех же скрипок, не касаясь друг друга, как в замедленной съемке, исполнят там, на небесах, члены святого армянского семейства, которым режиссер вместе с художником спектакля Кареном Григоряном еще воздвигнут на сцене прекрасный, как колеблющийся свет памяти, обелиск.
 «ОДИН ДЕНЬ ПАМЯТИ» — ВТОРОЙ СПЕКТАКЛЬ, СОЗДАННЫЙ РЕЖИССЕРОМ в соавторстве с Кареном Григоряном. После ухода из жизни своего друга и соратника Евгения Софронова Шахвердян долго предпочитал обходиться вовсе без художника, а значит, без декораций. А потом на сцене ванадзорского театра возник «Абгар-дпир», поразивший своим многослойным и роскошным визуальным рядом.
«ОДИН ДЕНЬ ПАМЯТИ» — ВТОРОЙ СПЕКТАКЛЬ, СОЗДАННЫЙ РЕЖИССЕРОМ в соавторстве с Кареном Григоряном. После ухода из жизни своего друга и соратника Евгения Софронова Шахвердян долго предпочитал обходиться вовсе без художника, а значит, без декораций. А потом на сцене ванадзорского театра возник «Абгар-дпир», поразивший своим многослойным и роскошным визуальным рядом.
«К сожалению, сегодня у нас большая нехватка театральных художников. Карен Григорян – очень самобытный художник с выраженным индивидуальным почерком, и все-таки – он ученик Жени Софронова. Софроновская школа! Для меня это очень важно, очень близко и дорого. С Софроновым я сделал двадцать два спектакля! С Кареном мы нашли общий язык, у нас получается сотворчество. Надеюсь, в скором времени оно будет продолжено уже в Драматическом театре, где мы вместе начинаем работу над «Коварством и любовью» Шиллера», — говорит Ваге Шахвердян.
Карен Григорян придумал к «Одному дню памяти» раму-лик Мадонны. Придумал родовое древо, что не склонило крону под ятаганом вандалов. А еще он придумал камни-фрагменты с национальным орнаментом, словно перенесенные на сцену ванадзорского театра с руин Звартноца. И, когда персонажи спектакля вновь усядутся за семейным столом, чтобы вновь преобразиться – сначала во фреску, а потом в фотографию, эти «архитектурные фрагменты» зашевелятся, начнут подниматься, станут капителями колонн из белого с красными всполохами шелка. Они дотянутся до неба и встанут, кажется, навсегда как обелиски памяти и символ бессмертия.
Вослед «Парижскому приговору» на сцене Драматического театра мы, кажется, заполучили второй спектакль, созданный в год 100-летия Геноцида, который стал не только фактом годовщины, но и фактом искусства. «Один день памяти» — спектакль точно не на один день.