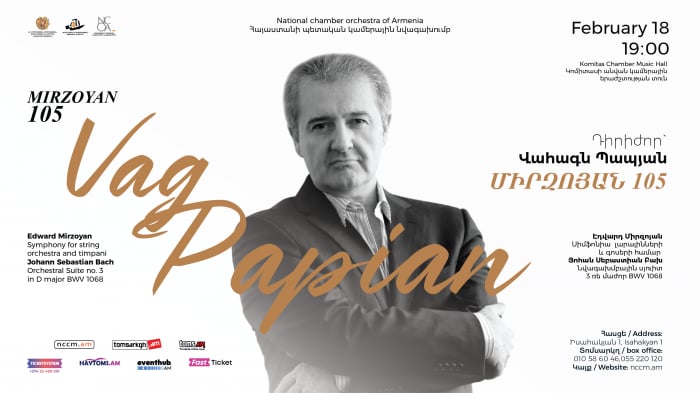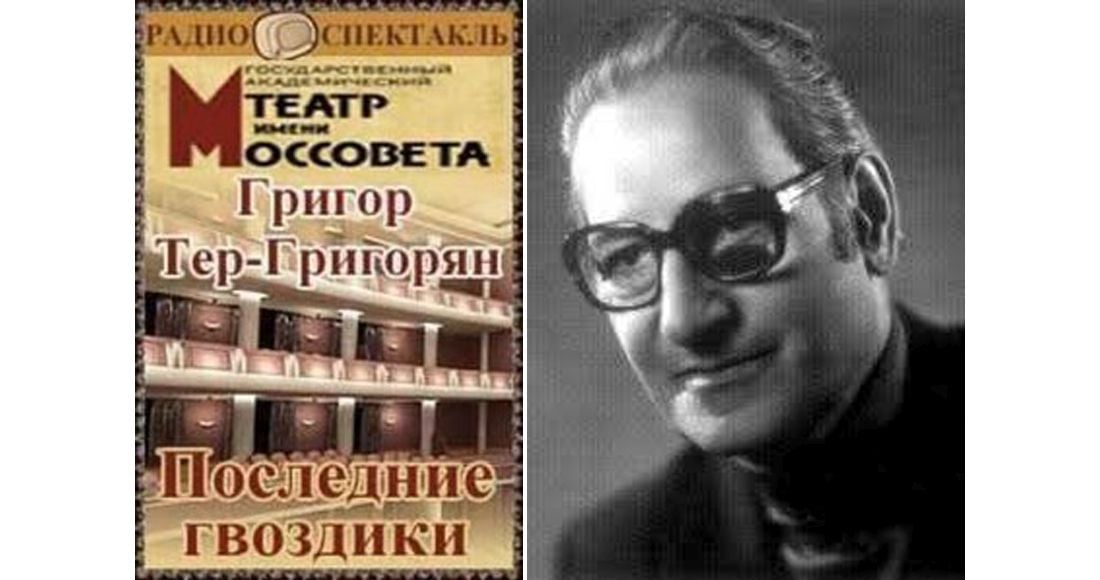Взяв в руки этот роскошный альбом, не спешите его листать. Вглядитесь в суперобложку. Не ради созерцания, может быть, уже знакомой вам картины известного живописца Шмавона ШМАВОНЯНА. И все же именно с суперобложки начнется постижение его главной темы, темы Арарата — символа Армении.
ПЕРЕД НАМИ ИЗОБРАЖЕНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ГОРЫ, полной неотразимой красоты и очарования. Во всем разлито дыхание вечности, бессмертия земли. Двуглавая гора, как гигантское облако, словно повисла в воздухе, усыпанная снегом, недоступная и нереальная «как миф о Ноевом ковчеге, как знак из иного мира — невероятно отдаленной басенной старины» (Ким Бакши). Она изумляет глаза и покоряет сердце, осчастливливая высотой и могуществом. Затем взгляд сквозит по темнозеленому склону, по желтизне долин. Художник видит земную красоту, знает о ее бессмертии и о том, что сам он когда-нибудь уйдет, а эта красота останется.
Преклонение перед этим белым чудом, изумление перед бесконечно изменчивой его красотой, перед необыкновенной, всегда вновь открывающейся гармонией — то драматически суровой, то торжественно-патетической, то изысканно-нежной — всегда жило в нем. Для него Арарат всегда развертывающаяся с драматическим напряжением история, постигаемая с усилием и вновь притягивающая своей неисчерпаемостью.
И вот мы открываем альбом, и на каждой странице снова Арарат в разное время года, в вечерних сумерках, на утренней заре и в полуденный зной. Весь этот араратский цикл — песнь души художника — словно составляет одну прекрасную симфонию красок, зреющую в его душе долгие годы. Арарат нашел отражение в бессмертных картинах Ованеса Айвазовского, Геворга Башинджагяна, Мартироса Сарьяна, Григора Ханджяна… Ему посвящали свои произведения поэты, писатели, путешественники — от Александра Пушкина, Ов. Туманяна, Сергея Городецкого, Симона Чиковани до Евгения Евтушенко, от русского военного и политического деятеля Алексея Ермолаева, первого Наркома просвещения Луначарского, немецкого географа, естествоиспытателя Морица Вагнера до российской поэтессы Веры Звягинцевой.
Вспоминаются слова из Библии: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских…»
Открывается альбом словами Верховного патриарха и Католикоса Всех Армян Вазгена I. На одной из последующих страниц — отрывок из воспоминаний русского военного и политического деятеля Алексея Ермолаева: «Две Араратские горы поднимаются на синем горизонте, грандиозно величественные. Впечатления молодых лет обычно глубоко воздействуют на воображение человека. И зрелище горы Арарат воссоздало в наших мыслях картину Ноева ковчега на его гребне и животных, всякой твари по паре, спускающихся оттуда, чтоб разойтись по земле… Говорят, на гребне его есть точка, которая никогда не покрывалась снегом… Возможно, это Ноев ковчег… либо то место, где ковчег покоится.»
И вот слова великого Пушкина, хрестоматийно известные со школьных лет: «Солнце всходило, на ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. Что за гора? — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: это Арарат. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, прикованный к ее вершине с надеждой на обновление и жизни, и врана, и голубиц, излетающих, символа казни и примирения».
 ХУДОЖНИК ШМАВОН ПРИСОЕДИНИЛ СВОИ СЛОВА В КРАСКАХ, рожденные любовью, к нетускнеющим словам, посвященным Арарату многими великими писателями, путешественниками. Рассматривая работы, словно проникаешь в мир художника, который — страница за страницей — разворачивается перед нами. И, возможно, художник пытается раскрыть свой взгляд на жизнь и тайный смысл этой священной горы — в ее движении, изменении, разнообразии, прелести, неповторимости и ярчайших проявлениях. Искать глубинный смысл в чувственных, колоритных, прекрасных образах и составляет скрытый смысл его работ.
ХУДОЖНИК ШМАВОН ПРИСОЕДИНИЛ СВОИ СЛОВА В КРАСКАХ, рожденные любовью, к нетускнеющим словам, посвященным Арарату многими великими писателями, путешественниками. Рассматривая работы, словно проникаешь в мир художника, который — страница за страницей — разворачивается перед нами. И, возможно, художник пытается раскрыть свой взгляд на жизнь и тайный смысл этой священной горы — в ее движении, изменении, разнообразии, прелести, неповторимости и ярчайших проявлениях. Искать глубинный смысл в чувственных, колоритных, прекрасных образах и составляет скрытый смысл его работ.
Работая над этим циклом картин 12 лет, художник освобождал себя от всего горького и мучительного, возвращаясь к своей первозданной человечности и доброте. Написанные с большой живописной экспрессией, они в каком-то новом свете раскрывают эту извечную тему. Образная наполненность и внутренняя динамика отличают лучшие работы цикла. Переворачиваешь страницу за страницей — от красновато-сине-зеленой пестроты переходишь к голубизне и небесному полету. Не образ ли бесконечного неба помимо священной горы хотел нам представить художник на этом развороте? В этой голубизне и синеве теряется взгляд, приходит чувство покоя, отступает все мелочное, ненужное человеку.
Но эта гора, с таким вдохновением и нежностью воспетая художником, не заслоняет от него остальной мир. Напротив, с ее сверкающих под солнцем снежных вершин открываются ему далекие горизонты земли и времени, причастность к которым, кровную, глубинную, мы ощущаем в каждом его мазке.
Искусство Шмавона одинаково волнует зрителей разных стран. Очевидно потому, что оно несет в себе сверхидею всеобщей гармонии. Она лежит в основе его эстетики, миропонимания. Эта идея — конечная цель его искусства. Отсюда и представление художника об искусстве как об истинной и бессмертной реальности, более достоверной, чем окружающая действительность.
МАЛАЯ РОДИНА ШМАВОНА — АРАРАТ. Пробуждению в себе художника он обязан именно природе своего края. Зелень долин, вечное безмолвие камня и несмолкаемый звон ручьев — все это с детства питало воображение будущего живописца. Для него эта природа была и раем, и школьной скамьей. Она и отметила своеобразием его творчество, наполненное светом, дала ему темы и краски.
Картины Шмавона привлекли внимание зарубежных гостей столицы — российских деятелей культуры, представителей посольств, а затем спустя какое-то время предстали перед глазами зрителей Франции, Англии, США, Кувейта, Сирии… И всюду успех — зрителей захватывают артистизм живописца, легкость, изящество. Особенно трепетно относятся к художнику в США, где устраивают встречи с ним, приобретают работы, заказывают новые, подтверждая, что полотна Шмавона и вправду обладают целительной силой, насыщенным и живым вдохновением, жизнеутверждающим содержанием.
Рассматривая серию полотен Шмавона, посвященных Арарату, для которого эта гора предстает глыбой мудрости веков, символом гордости духа народа, ощущаешь невероятное чувство восторга и надежды, которую так тонко, остро и пронзительно выразил Евгений Евтушенко:
И верю я — настанет день, когда
Границ не будет — только арки радуг,
Исчезнут в мире злоба и вражда,
И я прижмусь щекою к Арарату,
А если нет — лишь бы хватило сил! —
Пусть надорвусь, пусть мой хребет дробится, —
Я Арарат на плечи бы взвалил и
перенес его через границу.