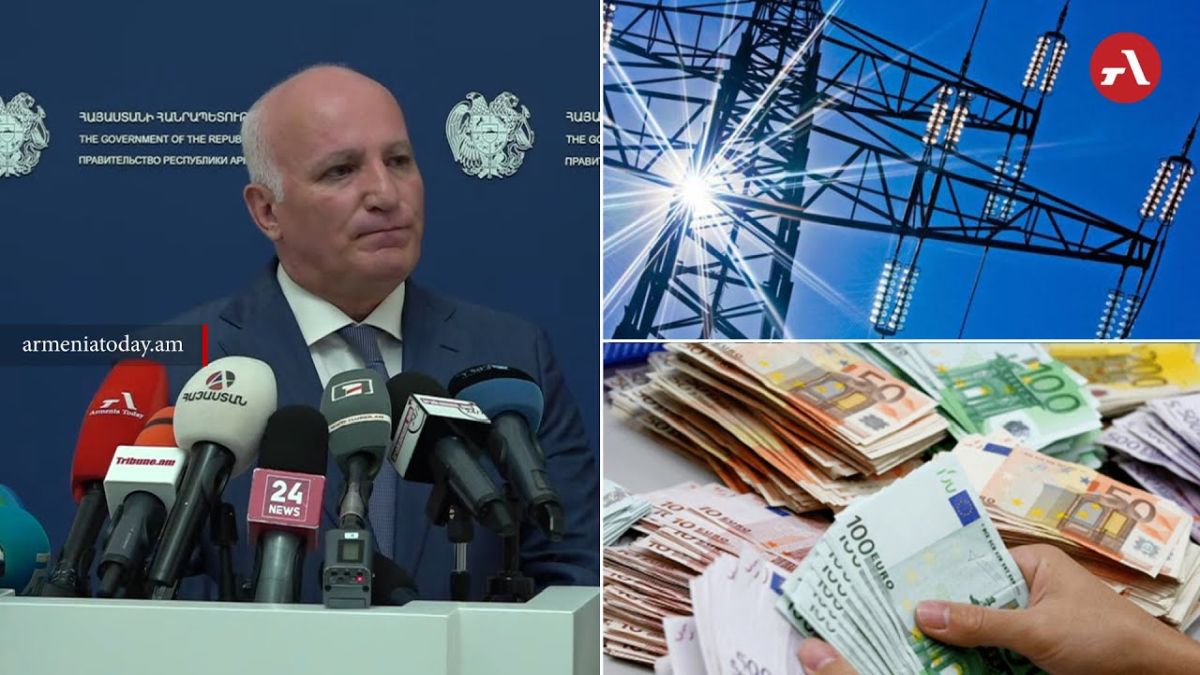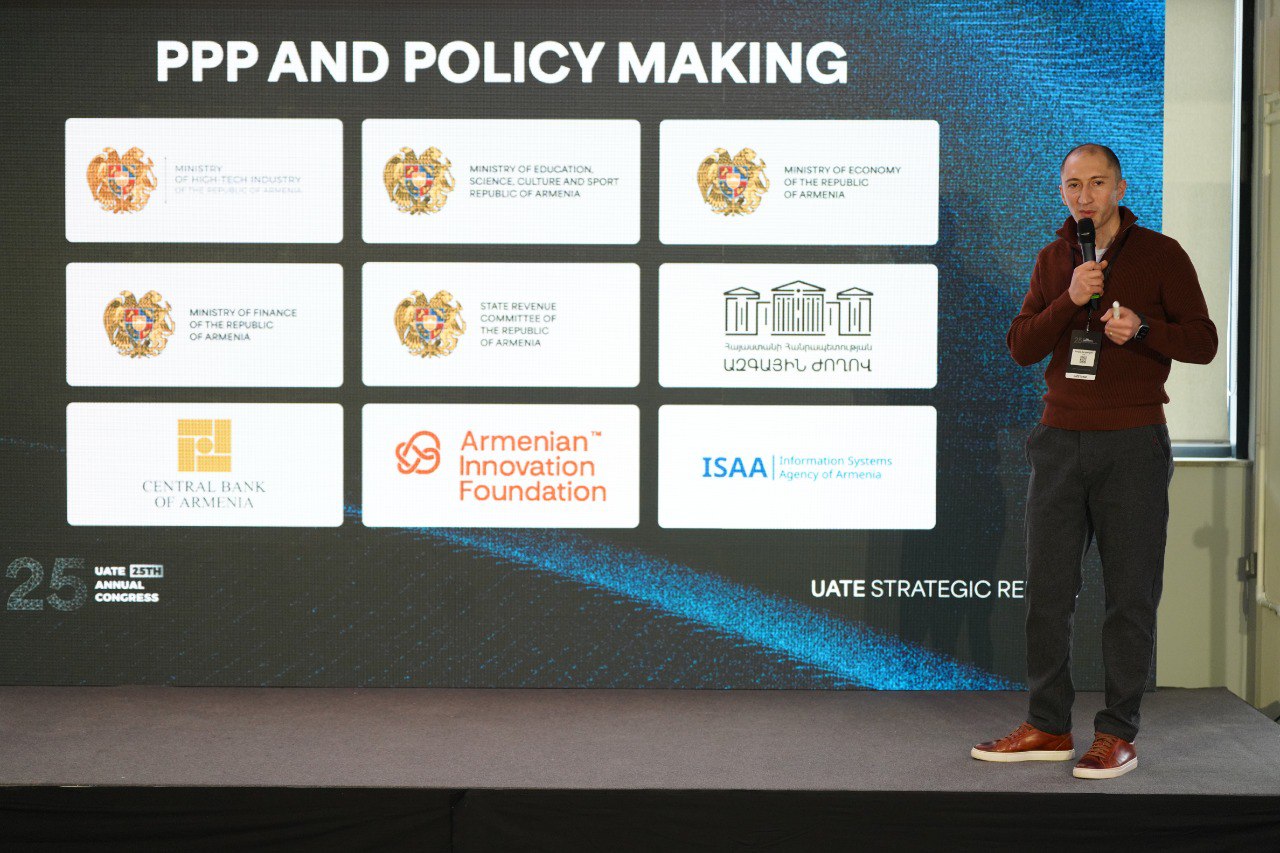Уже месяц, как завершился Каннский международный кинофестиваль, однако отголоски этого события все еще доходят до нас из прессы, сети интернет и даже в беседах с очевидцами жарких событий нынешнего сезона: киношные Канны справили в этом году 70-летний юбилей и, несмотря на солидный возраст, все еще остаются в числе претендентов за звание «лакмусовой бумажки» современного кинематографа.
«Что такое «кино-Канны»? Каково их значение?» — с этими и другими вопросами мы обратились к кинокритику, кинообозревателю журнала Newmag Диане МАРТИРОСЯН, которая за последние месяцы побывала на МКФ в Берлине, осветила события тегеранского «Фаджра» и недавно вернулась со свежими впечатлениями из Каннов.
 — ДЛЯ НАЧАЛА НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ИЗ ВСЕХ КИНОФЕСТИВАЛЕЙ КЛАССА «А» в Каннах самая нелояльная политика в отношении прессы и разная квалификация бейджей. Если, к примеру, в Венеции или Берлине журналист или кинокритик платит за бейдж и получает одинаковые права для выполнения своей работы, то в Каннах все обстоит иначе. В зависимости от того, на каком языке и для какого СМИ ты пишешь, какую представляешь страну в плане объема и престижа ее кинорынка, каков масштаб твоей читательской аудитории, каков твой опыт освещения фестиваля, ты получаешь или нет привилегии, более широкие или, наоборот, скромные возможности для работы. Журналисту, впервые оказавшемуся в Каннах, приходится нелегко. Чтобы взять частное интервью у какого-либо актера или режиссера, надо заранее написать письмо его агенту, но это не является гарантией встречи. Кинообозревателям, представляющим престижное на международном кинорынке издание и уже имеющим опыт работы в Каннах, легче заполучить подобное интервью.
— ДЛЯ НАЧАЛА НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ИЗ ВСЕХ КИНОФЕСТИВАЛЕЙ КЛАССА «А» в Каннах самая нелояльная политика в отношении прессы и разная квалификация бейджей. Если, к примеру, в Венеции или Берлине журналист или кинокритик платит за бейдж и получает одинаковые права для выполнения своей работы, то в Каннах все обстоит иначе. В зависимости от того, на каком языке и для какого СМИ ты пишешь, какую представляешь страну в плане объема и престижа ее кинорынка, каков масштаб твоей читательской аудитории, каков твой опыт освещения фестиваля, ты получаешь или нет привилегии, более широкие или, наоборот, скромные возможности для работы. Журналисту, впервые оказавшемуся в Каннах, приходится нелегко. Чтобы взять частное интервью у какого-либо актера или режиссера, надо заранее написать письмо его агенту, но это не является гарантией встречи. Кинообозревателям, представляющим престижное на международном кинорынке издание и уже имеющим опыт работы в Каннах, легче заполучить подобное интервью.
Канны – это гигантский кинорынок, там огромная конкуренция во всем, чего я не почувствовала в Берлине. Каннский дух конкуренции повсюду – в очередях, коридорах, фойе, залах: чтобы занять удачное место и вообще попасть на просмотр фильма или пресс-конференцию, нужно за пару часов занять очередь. Журналист здесь становится охотником или бойцом и вынужден проявлять чрезмерную активность, терпение и настойчивость. И еще: чтобы рассчитывать на хороший «улов», надо владеть французским и английским – знание других языков не спасает. В Каннах предпочтение отдается франкоязычным странам, производствам, прессе, чего не ощущалось ни в Берлине, ни в Тегеране. Чтобы наладить эффективную работу, армянскому журналисту надо быстро оправиться от культурного шока, четко расписать свой график и придерживаться его неукоснительно.
— Что такое Каннский кинофестиваль с точки зрения структуры?
— Он проводится во Дворце фестивалей и конгрессов, который в фестивальный период превращается в настоящий кино-город, который заполняют 10 тысяч деятелей кино, 4 тысячи журналистов со всего света и многочисленные синефилы. Здесь есть все, что положено для престижного фестиваля: Аллея звезд с отпечатками ладоней звезд мирового кино, кинозалы во главе с «Гранд Люмьер», залы для пресс-конференций, пресс-офис и т.д. Отдельно от секции кино с ее конкурсными и внеконкурсными программами действует секция кинорынка, по сути являющегося специализированной ярмаркой, где покупается и продается кинопродукция, рассматриваются кинопроекты, устраиваются переговоры с возможностью налаживания контактов и копродукции между деятелями из разных стран, в том числе и продюсерами, дистрибуторами и т.д. Везде своя плотная охрана и свои очереди. Если учесть большие расстояния между секциями, то становится понятным, что попасть из просмотрового кинозала на кинорынок не так уж просто. Кстати, в этом году на кинорынке Каннского МКФ был открыт армянский павильон, здесь работали Ованес Галстян, Арсен Аракелян, Армен Ронов, Артур Сукиасян и другие делегаты из Армении, которые представили кинопроекты, сценарии, незаконченные фильмы.
— Были ли включены в конкурсную программу армянские фильмы?
— ЭТО САМЫЙ ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС ПРИ ПРЯМЫХ ВКЛЮЧЕНИЯХ С ФЕСТИВАЛЯ, на который приходится отвечать «увы…» Армянские синефилы не только не представляют все сложности попадания в конкурс столь престижного фестиваля, но и уровня современного мирового кино, трендов, проблем, которые оно поднимает. Большинство наших режиссеров ездит на международные кинофестивали среднего класса, отмечает этот факт в своей творческой биографии, и у публики создается не совсем верное впечатление об уровне и отдельных фильмов, и нашего национального кино в целом, и авторитетных фестивалей. Побывать, к примеру, в Уфе и Каннах – это небо и земля. Армянское кино, к сожалению, выбивается из мирового контекста, не имея общей с мировым кинематографом проблематики.
Красная линия и основной мессидж Каннов этого года — буржуазная цивилизация и современная европейская семья, зашедшая в тупик. Об этом драма о заполонивших Европу беженцах «Хеппи энд» — обладателя двух «Золотых пальмовых ветвей», австрийца Михаэля Ханеке, косвенно тема затронута антиутопистом Йоргосом Лантимосом в фильме «Убийство священного оленя», об этом с точки зрения вечной российской проблематики говорит в картине «Нелюбовь» Андрей Звягинцев. Швед Рубен Эстлунд высмеивает европейскую политкорректность, современную арт-среду и ее представителей, оставаясь в контексте мировых тенденций в кино.
Перечислять можно долго. Успех этих фильмов в том, что, будучи разными по актерскому составу, игре, стилистике, жанру, визуальному ряду и т.д., все они несут проблематику, понятную и режиссерам, и публике разных стран. Все авторы словно задаются вопросом: «Куда мы идем? К чему это приведет?» — рассматривая в своих картинах глобальные проблемы современного мира. К сожалению, в армянском кинематографе, если рассматривать его в целом, подобный подход отсутствует. Наши авторы снимают на темы, понятные лишь в локальном масштабе и неконкурентоспособные на каннском пространстве.
— Где же выход?
— Если ты снимаешь кино не только для Еревана, где 500-1000 синефилов, но есть и критики, продюсеры, дистрибуторы, обеспечивающие развитый кинопроцесс и киноиндустрию, то в своих фильмах надо говорить не только о Ереване и Армении, или же говорить на киноязыке, доступном людям в разных уголках планеты. Фильмами с локальными шутками и на локальные темы невозможно покорить мировой кинорынок. Кроме национальной самобытности, характера, аутентичности в современном кино, рассчитанном на серьезные фестивали и прокат, в фильмах надо показывать то, что понятно всем, и показывать так, чтобы заставить задуматься, размышлять, чувствовать и волноваться публику разных стран.
Режиссеры и продюсеры в Армении часто ссылаются на нехватку в наши дни литературных источников. Не соглашусь с ними. У нас есть своя литература, в том числе и современная. Кроме того, есть мировая литература, которой, к сожалению наши создатели фильмов просто не увлекаются. Одних лишь патриотических тем, бьющих по эмоциям своих зрителей, недостаточно, чтобы занять место в мировом кинематографе. При наличии остросатирических социально-политических тем в нашей действительности для режиссеров с широким кругозором уйма идей для сценариев.
Для сравнения скажу: обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского МКФ этого года Рубен Эстлунд высмеивает современного европейца, который стремится быть толерантным ко всем и ко всему, но, по сути, выглядит глупо. Эстлунд затрагивает самые наболевшие проблемы современного «цивилизованного» общества и при этом не боится оказаться «чужим среди своих». В армянской жизни немало острых углов, но наши режиссеры не желают говорить о них с экрана.
— Вернемся к будням и итогам Каннского кинофестиваля. Каков ваш итог участия в нем?
— ОТРАДНО, ЧТО ОТЧАСТИ МНЕНИЯ КРИТИКОВ И ЖЮРИ СОВПАЛИ. Призы, которые критики пророчили тем ли иным картинам, дошли до них после решения жюри. Кроме «Квадрата» это «120 ударов в минуту» Робена Кампилло, «Нелюбовь» Звягинцева, дебютная «Теснота» Кантемира Балагова, «Убийство священного оленя» Лантимоса, кстати, «осовремененной» версии античного мифа, и другие. Словом, самые знаковые фильмы не остались без внимания, а то, что выбивалось из общей темы, было проигнорировано и жюри, и критикой. Среди «жирных линий» фестиваля – тема беженцев и терактов, знакомая европейским режиссерам не понаслышке.
Кстати, на Каннский фестиваль не продают билетов, их надо получить – от гостя или участника, которым выписываются билеты и которые могут подарить их кому угодно. У входа в кинозалы стоят зрители с табличками и выпрашивают билеты. Так что, если вы соберетесь в Канны, учтите и это.