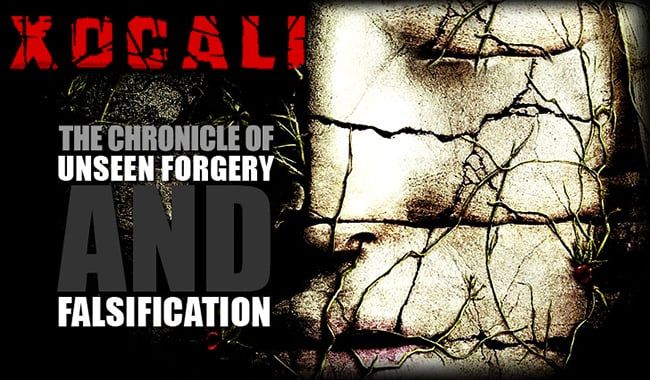О стрессах и их последствиях, «семейном насилии», модели армянской семьи и многом другом рассказывает в интервью «ГА» руководитель Стресс-центра, доктор медицинских наук Самвел СУКИАСЯН.
— Самвел Грантович, психические заболевания, невротические, стрессовые нарушения и т.д. — их в Армении стало больше или меньше?
— Если сравнивать с прошлым годом, существенных изменений нет. Обращаемость примерно та же, структура заболеваний — тоже. По официальным данным, число больных, регистрирующихся в диспансерах (речь идет о собственно психических расстройствах), в Армении составляет порядка 55 тысяч человек. Это, повторюсь, количество учтенных в диспансерах больных с психическими заболеваниями. В данном контексте мы можем говорить о некотором увеличении, но дело не в том, что больных стало больше, а в том, что увеличилась выявляемость. Диспансеры нормально работают, госкзаказ худо-бедно обеспечивается, так что здесь ничего особо непредвиденного не происходит. В структуре же обращаемости в нашу клинику, куда преимущественно приходят пациенты с пограничными состояниями, наблюдается больше невротических нарушений, состояний тревоги, истерических, фобических расстройств.
— С чем это связано?
— Факторов много. Социально-экономическая ситуация, негативный психологический фон, личностные и социальные стрессы, неопределенность, нестабильность жизни в целом — все это факторы, играющие свою роль. В прошлом году после Апрельской войны наметился небольшой, но все же рост обращаемости среди военнослужащих. И это понятно, поскольку известно такое психическое расстройство, как посттравматический стресс. Через некоторое время подобная тенденция пошла на спад — люди смогли решить свои личностные проблемы, вернуться к нормальной жизни.
— A есть статистика, свидетельствующая о том, сколько пациентов с пограничными состояниями полностью вылечиваются, а у скольких проблемы усугубляются и они становятся пациентами психиатрических клиник?
— Нет, такой статистики нет, у нас ее по определению быть не может. Во-первых, наши пациенты не состоят на учете в психиатрических учреждениях. Если они выздоравливают, то к врачам далее не обращаются. А при наличии проблем они начинают обращаться к разным специалистам (неврологам, терапевтам, кардиологам и т.д.), в разные клиники, и на каком-то этапе их потом опять направляют к психиатру после констатации того факта, что речь идет не о соматической, а о психологической, более того, психопатологической проблеме. У нас в стационаре лечатся около 600 больных в год — из них половина как раз такого рода пациенты. Что касается полного излечения, то это понятие весьма относительное. Больные покидают клинику в состоянии ремиссии. Однако выходит довольно запутанная ситуация. Люди заболели в результате самых разных стрессов (личностных, семейных и т.д.). Пройдя лечение, они избавляются от болезненных переживаний, но ведь сама стрессовая ситуация остается. И когда человек возвращается в эту свою жизненную ситуацию (в ту же семью, на то же рабочее место, к той же теще или свекрови, мужу или жене), что, по-вашему, происходит?
— Стресс «возвращается»…
— Вот именно. То есть в самой ситуации тоже должны произойти какие-то изменения, которые уже от врача не зависят. Большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся, не чисто медицинские. Если наряду с внутренними переменами, улучшением самоощущения у человека происходят изменения и на внешнем, социальном плане, то выздоровление идет быстрее, а если причины стресса остаются, то через какое-то время после ремиссии может опять наступить ухудшение.
— А есть люди, которые, пройдя курс лечения, решают кардинально изменить свою жизнь и делают это?
— Конечно. И у них получается изменить ситуацию, решить проблемы, связанные с местом жительства, с неудачным браком, с работой и т.д. Если проблема решается, то, естественно, происходит выздоровление. Важен и другой фактор — способность самого пациента с помощью психотерапевта думать, анализировать, правильно расставлять акценты, определяя причины и следствия. Тогда даже в условиях наличия прежней жизненной ситуации, наличия никуда не девшихся тех же самых причин стрессов у человека меняется к ним, отношение, и это самое главное. К сожалению, для этого требуется определенный уровень образованности, интеллектуальности, а у нас люди, увы, чем дальше, тем больше идут по пути деградации. Мы становимся потребительским обществом в самом худшем его проявлении. На таком уровне решать какие-то ментальные задачи — большая проблема. Ведь не все зависит от врача. Что же касается общественного среза, то, если мы говорим о молодых, у них зачастую хромают образование и воспитание, пожилым трудно меняться, потому что они мыслят категориями, которыми мыслили многие годы, что касается среднего поколения, то оно выбивается из сил, решая элементарно вопросы выживаемости: как обеспечить своих стариков, своих детей и себя. Акценты полностью изменились — в подобных условиях людям трудно оставаться объективными, реалистичными, они только страдают, причем страдают даже в позитивных ситуациях. А страдание ведет к разного рода психологическим проблемам.
— Люди какой возрастной категории к вам обращаются чаще? И кто — женщины или мужчины?
— В основном обращаются люди среднего возраста. Что касается пола, то раньше было больше женщин, а сейчас — мужчин. Женщины более выносливые, что ли, мужчины — слабее…
— Сегодня активно обсуждается навязываемый нам законопроект «О предотвращении семейного насилия и защите лиц, подвергшихся семейному насилию». Поборники его принятия утверждают, что число случаев семейного насилия (в частности, насилия по отношению к женщинам) обрело едва ли не размеры национального бедствия и растет с каждым днем. Причем акцент ставится на формах психологического и экономического насилия в семье по отношению к женщине. А вы что скажете по этому поводу — со многими женщинами, подвергшимися семейному насилию, вы встречались в своей практике?
— Понятно, какую цель преследует этот закон. Оставим в стороне его политическую составляющую и поговорим о «фактуре». Реальность заключается в том, что даже если раньше мужчины притесняли женщин в семье, то теперь ситуация в корне изменилась — женщины притесняют мужчин. Да, именно так: чаще всего морально-психологическое насилие в семье идет со стороны женщины и направлено на мужчину. Зададимся вопросом: может ли сегодня мужчина выполнять свою социальную роль в полной мере — так, как он делал раньше? Однозначно — нет. Сегодня женщины легче и быстрее находят работу, пусть даже более низкооплачиваемую. И даже один этот фактор о многом свидетельствует. Мы знаем, в скольких семьях наших пациентов женщина работает, а мужчина нет…
— Таких семей много?
— Очень много. А теперь скажите мне: если в такой семье муж хлопнет кулаком по столу или попробует «наехать» на жену, какова вероятность, что она не даст в ответ сдачи «сковородкой», заявив, что она содержит семью и этим все сказано?! Я по роду деятельности сталкиваюсь с разными семьями, понимаю, откуда идут те или иные психологические проблемы. В Армении есть районы (например, Мартуни, Варденис, Гавар), где мужчины, если они и есть, отсутствуют дома по полгода, зарабатывая деньги для своих семей на чужбине. И пока их нет, «психологическое насилие» по отношению друг к другу демонстрируют женщины — например, невестка и свекровь.
Навязываемый нам закон — просто попытка протолкнуть чуждые нам ценности, разрушив институт армянской семьи. Если человек совершил насилие, какая разница, где это произошло — в семье или еще где-то? Насилие есть насилие, равно как есть Уголовный кодекс, который должен действовать в подобных случаях. В конце концов, любое общество состоит из разных семей. Что, для каждого принимать отдельный закон? Кстати, важен и другой нюанс: в семье зачастую совершаются такие вещи, что даже тогда, когда налицо факт агрессии, не всегда проговариваются ее корни и причины. Если закон «О предотвращении семейного насилия и защите лиц, подвергшихся семейному насилию» пройдет, он может породить серьезные проблемы как на уровне отдельно взятых семей, так и на уровне общества.
Армянская семья имеет свою специфику, хотя за последнее время она уже подверглась изрядному искажению. Тем не менее именно эта семья сохранила нацию, государство. И такой модели семьи больше нет нигде в мире. Сегодня ее хотят приравнять к модели европейской или американской семьи, которая есть дом, но не очаг. А армянская семья — это очаг. Если мы позволим разрушить традиционную модель армянской семьи, поверьте, добром это не закончится…