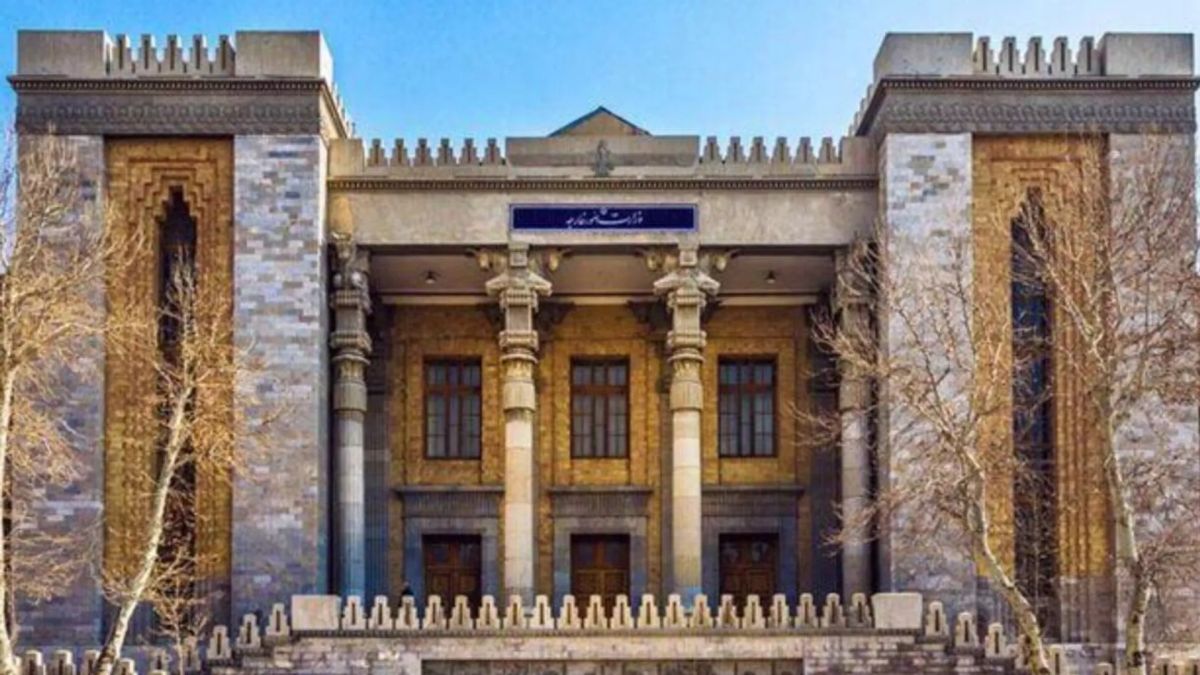Уходит еще один год, который наша культура прожила вместе со всей страной, стараясь противиться вызовам и стремясь искать ответы на многочисленные вопросы…
Холден Колфилд, герой культового сэлинджеровского романа «Над пропастью во ржи» тоже задавался вопросами. В частности, он хотел знать, зачем так организован мир, и даже интересовался, куда деваются рыбы, когда замерзает пруд — утки улетают, а рыбам ведь деться некуда…
Вот и наша культура пытается «спросить о судьбе рыб». Спросить о судьбе рыб – не то же ли самое, что поинтересоваться, а как там люди, про которых не думают?
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА «ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД», ПРИХОДИТСЯ ПЕЧАЛЬНО КОНСТАТИРОВАТЬ: армянская культура, по крайней мере в той ее части, куда, как слон в фарфоровую лавку, вторгается государство, как и сама Армения, все больше ужимается в размерах и утрачивает гарантии безопасности.
Культура отодвигает рубежи, как Армения отдает километры. В продолжение прошлых «закрытий» за уходящий год был практически закрыт театр «Гой», которому только и осталась, что слава «героев сопротивления»… На грани отъема зданий оказались творческие союзы Армении… Здание АОКС-а, Общества культурных связей, которое долго виделось музеем, неожиданно обернулось магазином люксовой одежды… И так далее, и тому подобное.
Не потому ли заявление главного начальника страны о том, что все госчиновники обязаны в рождественские каникулы не уезжать из Армении и встретить Новый Год в одном из музеев, вызвали ужас не только у хозяев тур-агентств? «Они туда попрутся, потом объявят, что там никого, кроме них, не было — о ужас! в музее! в новогоднюю ночь! — и теперь начнут закрывать музеи», — пришли к неутешительному выводу многие. А ведь подобная перспектива вряд ли должна кого-то удивлять.
Уже шесть лет армянская культура существует без культурной политики — программного документа, описывающего рамки приоритетов и развития. Уже шесть лет армянская культура существует с государственной политикой — закрывать или на худой конец оптимизировать. И если учитывать, что культура, как и язык, — основные составляющие национальной самоидентификации, такой поход на нее в нынешнем контексте тоже никого удивлять не должен.
Когда еще в году прошлом слили в единую структуру государственные ансамбли Танца Армении, Песни и танца Армении им. Алтуняна, Народных инструментов Армении, Гусанской и народной песни Армении, а заодно «Акунк» и «Дружбу», это называлось — «слияние будет способствовать эффективному проведению единой политики в армянском народном жанре». Серьезно? И в чем же это проявляется? Но менять вектор государство очевидно не собирается.
Зато, кажется, оно собралось не менять даже, а отменять собственную «реформаторскую» идею. Суть была в следующем. Если учреждение культуры работает хорошо, а означает это исключительно «зарабатывает», государство не просто выплачивает ему дотацию, но удваивает заработанную сумму. В качестве «пилотного запуска» этой идеи весь уходящий год работали Национальные театры оперы и балета им. Спендиаряна и Кукол им. Туманяна. «Пилоты» наработали, то есть заработали столько, что захребетники Министерства ОНКС не на шутку испугались. А если так — каждый? Это сколько же им выплачивать — не от себя же, любимых, отрывать! Над «реформой» гудит звон медного таза…
Французские якобинцы так страстно утверждали перемены, что даже календарь изменили. Так происходит каждый раз — идея овладевает массами, и, чтобы эта идея дала силы и кураж ломать все, что уже построено, «до основания», прежде чем начать строить «наш новый мир», требуется презентовать ее как очень притягательную. С этим у наших манипуляторов общественным сознанием проблем нет. Вот только реальные результаты «великих перемен» никто не анонсирует…
А как там люди, про которых не думают? В данном случае речь не о всех нас, о которых тоже не думают, а о людях культуры. Они продолжают работать, и порой с мазохистическим упорством. Об этом свидетельствуют многие отдельные победы современного армянского искусства, о которых много раз говорилось в течение года и которые становились нашими общими победами.
Несмотря на периодически раздающиеся упреки, порой переходящие в вопли «С кем вы, деятели культуры?!», многие артисты придерживаются холденовской, сэлинджеровской концепции одинокого честного бытия. И как футуристы 20-х годов прошлого века, создают проект будущего. Только вот всякие «будетляне» и «творяне» были прожектерами — и навстречу им маршировали батальоны таких же прожектеров. У современного армянского искусства нет сил, а главное, желания прожектерствовать. Оно стремится помочь нам вновь обрести себя, вернуться к имманентным законам бытия и здравому смыслу, к своему началу и истоку, настаивать, что достоинство, честь, гуманизм, любовь и, в том числе, любовь к Родине все еще, да и всегда — «категории». Об этом свидетельствовали лучшие его достижения года.
… Холден Колфилд, герой романа, написанного после страшной войны, хочет ловить детей во ржи. Ловить, чтобы удерживать заблудившихся в поле детей над пропастью. Словно бы жизнь — это темное ночное поле, и по темному полю жизни бегают потерявшиеся дети, а где-то этих детей подстерегает обрыв. Такой вот образ…
«С кем вы, деятели культуры?!». Они со своим зрителем, слушателем, читателем. Они помогают нам перейти это поле и не упасть в пропасть. И можно не сомневаться: несмотря ни на что, в приходящем 2025 году они не оставят своих усилий.