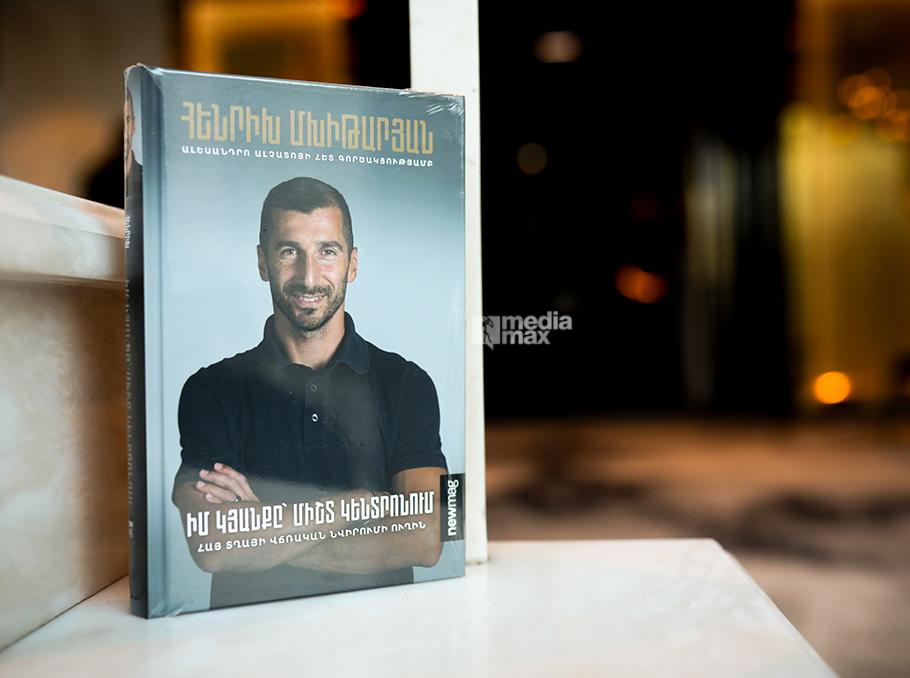В номинации "Лучший молодой режиссер" ежегодная театральная премия "Артавазд" досталась Самсону МОВСЕСЯНУ за постановку спектакля "Нос" по повести Н.В. Гоголя, осуществленную на сцене СТД. Молодой режиссер и его небольшая команда выбрали для себя название на редкость подходящее – труппа Up.
Сегодня с уверенностью можно констатировать, что Up, "вверх" — это не просто название, а стремление, выбранное не только названием, но и творческим кредо, кстати, успешно реализуемым.
НЕ РАЗ СЛУЧАЛОСЬ, КОГДА МОЛОДОЙ РЕЖИССЕР ЯРКО ЗАЯВЛЯЛ О СЕБЕ ПЕРВЫМ СПЕКТАКЛЕМ, заставляя всерьез заговорить о себе, а потом… Потом пролетал ярко вспыхнувшей, но быстро и неотвратимо погасшей кометой. С Самсоном Мовсесяном, в нынешнем году заканчивающем режиссерский факультет ГИТиКа, куда он поступил в мастерскую Григора Хачатряна, все вышло иначе. Первые его работы были вполне предсказуемыми "часами ученичества". А вот что реально удивляло – редко нынче встречающаяся влюбленность в профессию, поразительное упорство и трудоспособность, заставляющие еще не мужа, но совсем мальчика делать один спектакль за другим. И от раза к разу они становились все "сделаннее", крепче, обретали рисунок и почву. Кстати, после "Носа" Самсон успел поставить спектакль "Гейша" — полную томной неги "японскую гравюру" — и начал работу над "Алисой в стране чудес" в Театре кукол.
"Нос" стал поворотной точкой, этапным итогом творческого поиска и накопленного, пусть небольшого, опыта, выплеском к стремлению Up. Его даже можно назвать последним полотном гоголевского триптиха, появившегося в последние годы на нашей сцене – в стилистике своей он как бы перекликается с блестящими спектаклями "Записки сумасшедшего" Ваана Бадаляна и "Ак-Ак", поставленном по мотивам "Шинели" на сцене Театра кукол Рубеном Бабаяном, который чуть не получил за это Государственную премию.
 В случае с Самсоном, предыдущие работы которого воплощали драматургию, отнюдь не отмеченную знаком гениальности, но вполне оправдываемую юношеской тематикой, выбор Гоголя – Гоголя мистического — уже стал неожиданностью. И здесь следует отдать должное чутью молодого режиссера, ощутившего, выражаясь языком великого писателя, что "умы всех именно настроены были к чрезвычайному".
В случае с Самсоном, предыдущие работы которого воплощали драматургию, отнюдь не отмеченную знаком гениальности, но вполне оправдываемую юношеской тематикой, выбор Гоголя – Гоголя мистического — уже стал неожиданностью. И здесь следует отдать должное чутью молодого режиссера, ощутившего, выражаясь языком великого писателя, что "умы всех именно настроены были к чрезвычайному".
Стихия игры – воздух театра. Стихия игры наполняет этот эксцентрический и полный истинной театральности спектакль. Историю майора Ковалева, который, проснувшись однажды, "увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место", разыгрывают перед зрителем три совсем молодые актрисы-студентки — три то ли рассказчицы, то ли клоунессы. Молодой режиссер на удивление хорошо осознал, что имеет дело с великим художником слова.
СПЕКТАКЛЬ ИДЕТ НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА, И В АДРЕС ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦ уже звучало немало хвалебных слов не только в плане владения русским языком, но и в плане виртуозности подачи языка гоголевского. Лексика, не имеющая аналогов: высокопарность, просторечие и говоры — обломки исчезнувшего живого языка, обломки исчезнувшего художественного стиля. Вся эта феерия есть, конечно, не только ироническая словесная маска и не только виртуозная, красочная игра слов, карнавал слов – это еще и словесный портрет эпохи. Сона Матевосян, Анаис Сардарян и Сюзанна Оганесян создают адекватную театральную феерию — через гротески языка, через фантасмагорию реплик и монологов.
 Их речь пронзительна, живописна и очень смешна, молодые актрисы создают карнавал интонаций, акцентов, речевых характеристик. В этом они смелы, находчивы и необычайно азартны. Перед зрителем проходит целая галерея персонажей – майор Ковалев и его Нос, цирюльник Иван Яковлевич и его колоритная супруга, штаб-офицерша Подточина, за дочерью которой майор "любил приволокнуться, но избегал окончательной разделки", и чиновник по почтовому ведомству… И даже в самых инфернальных картинах спектаклю удается сохранить некоторый юмористический курсив, некоторую веселую подсветку, с которыми изображается имперский, чиновничий, мещанский Петербург.
Их речь пронзительна, живописна и очень смешна, молодые актрисы создают карнавал интонаций, акцентов, речевых характеристик. В этом они смелы, находчивы и необычайно азартны. Перед зрителем проходит целая галерея персонажей – майор Ковалев и его Нос, цирюльник Иван Яковлевич и его колоритная супруга, штаб-офицерша Подточина, за дочерью которой майор "любил приволокнуться, но избегал окончательной разделки", и чиновник по почтовому ведомству… И даже в самых инфернальных картинах спектаклю удается сохранить некоторый юмористический курсив, некоторую веселую подсветку, с которыми изображается имперский, чиновничий, мещанский Петербург.
Пожалуй, наиболее точно атмосферу мистического Гоголя способна передать анимация. Недаром по тому же "Носу" сделано несколько мультипликационных фильмов, в том числе знаменитые работы Алексеева и Лисового. Самсон Мовсесян использовал свою анимацию. В его спектакле куклы живут на равных правах с людьми, маска прикрывает личину, чтобы открыть лицо, реквизит – порой не театральный, а цирковой – позволяет воссоздать не только неповторимый воздух гоголевского произведения, но и создать неповторимый индивидуальный язык и колорит спектакля.
Что самое интересное, в спектакле по повести "Нос", по этой "поэме без героя", молодой режиссер обнаружил двух главных героев — человека игры, рожденного карнавалом персонажей, и человека власти. Это ощущение остро возникает, когда на сцене появляется Нос майора Ковалева в генеральском мундире — амбивалентный тип сразу и игрока, и имперского персонажа. С эполетами на плечах, в треуголке и крылатке, со сцепленными за спиной руками и загадочной пластикой. С державным жестом, жестом пароксизма и полуобморока, жестом назидания и угрозы, жестом самодержца, владеющего миром, и жестом самозванца-игрока, идущего ва-банк, – сама эта пластическая фигура напоминала гротескно преобразованную картинку какой-то игральной карты. Карта–избранница и карта–изгой, в силуэте которого нечто от Воланда и нечто от марионетки. Контрапункт замечательного воплощения мистического и сатирического Гоголя.
ВПРОЧЕМ, КАК-ТО НА ОБСУЖДЕНИИ "НОСА" ОДИН ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДРАМАТУРГОВ долго возмущался тем, что режиссеры, и особенно молодые, вместо того чтобы ставить пьесы, берут прозаические произведения, "предназначенные для чтения". Совсем как в финале повести — "но что страннее, что непонятнее всего, — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…".
Здесь следует заметить, что польза отечеству, во-первых, в том, что на классной литературе по-настоящему раскрывается режиссер и получают материал для настоящей работы актеры, и как показала практика, порой делают это блестяще. А если прибавить к этому, что на спектакли молодых в основном молодые и ходят и, следовательно, тоже приобщаются к классной литературе и настоящему театру… "Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают", — заметил Николай Васильевич Гоголь.