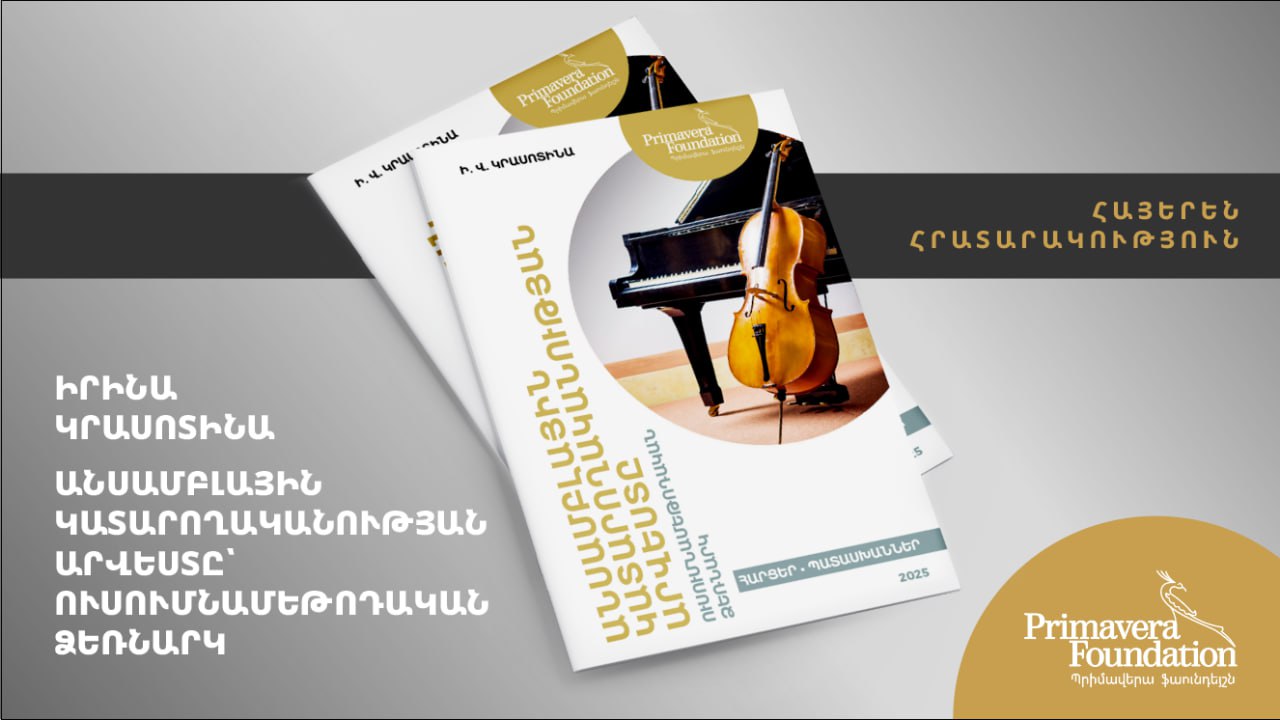Крупнейшему скульптору Армении Ара АРУТЮНЯНУ 28 марта исполнилось бы 95. Человек-легенда, он прожил всего 71 год, вместивших в себя, кажется, несколько жизней, и достиг высот во всех жанрах изобразительного искусства и, в первую очередь, как автор монументальной скульптуры. Каждая его работа самобытна и интересна и свидетельствует об оригинальности его дарования. С первого взгляда осознаешь присущую этому скульптору масштабность поэтического мышления. Он ощущал себя частицей большого разумного мира, где земное никогда не становится приземленным, а высокое имеет глубинные земные корни. Масштабность мышления, смелость образов и тонкость резца были у А. Арутюняна несомненны и неразделимы.
ГЛЯДЯ НА ГРАНДИОЗНУЮ ДВАДЦАТИМЕТРОВУЮ ФИГУРУ МАТЕРИ-АРМЕНИИ, величественно вознесшейся над необозримым пространством, возникает чувство, что она может без усилий шагнуть поверх крыш зданий и не будет в этом ничего противоестественного. На фоне высокого неба она выделяется четким выразительным силуэтом и хорошо просматривается почти со всех концов Еревана. В этом памятнике, выполненном скульптором Ара Арутюняном (постамент архитектора Рафо Исраэляна), образ матери доведен до высот патетического звучания.
В фигуре женщины, вкладывающей меч в ножны, есть все, что испокон века люди связывали с образом женщины-победительницы – мощь, несокрушимая воля, мужество, достоинство. Исполненный могучей, эпической силы, олицетворяющий собой великую мудрость народную, этот памятник несет в себе мощный заряд волнующих идей, отличается подлинной монументальностью.
 Драматизм и героика, пафос жизнеутверждения и светлый оптимизм – качества, органически присущие пламенному таланту Ара Арутюняна, получили искреннее признание народа. И почти все работы мастера, которые ныне украшают наши города и районные центры — всегда о прошлом, о пережитом. О прошлом для будущего. То есть о времени, во времени, и для времени. Не случайно чувство времени столь необходимо для художника. Оно проявляется во всем — в умении почувствовать ритм дня, соединить прошлое с настоящим, предвидеть будущее. А главное — суметь выразить свое собственное время, которое не стоит на месте…
Драматизм и героика, пафос жизнеутверждения и светлый оптимизм – качества, органически присущие пламенному таланту Ара Арутюняна, получили искреннее признание народа. И почти все работы мастера, которые ныне украшают наши города и районные центры — всегда о прошлом, о пережитом. О прошлом для будущего. То есть о времени, во времени, и для времени. Не случайно чувство времени столь необходимо для художника. Оно проявляется во всем — в умении почувствовать ритм дня, соединить прошлое с настоящим, предвидеть будущее. А главное — суметь выразить свое собственное время, которое не стоит на месте…
Так случилось, что, общаясь со скульптором на протяжении более двух десятилетий, зная многие его работы, не написала о нем ни очерка, ни творческого портрета. Очевидно, немаловажную роль сыграло обстоятельство совсем не творческого порядка.
Как-то пришла к нему по заданию редакции — написать о деятельности парторганизации Союза художников. Конечно, я не была в восторге от темы, но она так или иначе стояла на повестке дня и отказ сотрудника не поощрялся. В то время Ара Арутюнян был уже давно признанным мастером, автором множества серьезных работ — памятников Саят-Нове, Комитасу, памятника Победы ( Мать-Армения), композиции «Героям, павшим за освобождение Зангезура», обелиска в честь воинов Таманской армянской дивизии, погибших в боях за освобождение Севастополя, скульптур «Заря», «Юность», многочисленных декоративных композиций.
Тема беседы не вызвала особого энтузиазма и у скульптора: он отвечал вяло и односложно. С каждым вопросом этот отзывчивый, добродушный человек становился более настороженным и, наконец , вышел из себя: «Вопросы твои вызывают острую, стреляющую боль. Ощущение, будто подключили бормашину, и она впилась в больной нерв…». Об этом сейчас вспоминаю с улыбкой, но тогда мне было не до смеха. Вскоре за провал задания я схлопотала выговор: таковы были суровые нравы руководства газеты («Коммунист»), в которой я тогда работала.
ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ АРА АРУТЮНЯНА БЫЛА НЕОБЫЧАЙНО ИНТЕРЕСНОЙ И НАПОЛНЕННОЙ. Он пробовал свои немалые силы во всех жанрах и, к чему бы ни прикасалась рука мастера, она преображала материал, создавая образцы высокого искусства. Даже самые ранние работы Арутюняна — портрет актера Адамяна, портрет девушки, памятник Комитасу, установленный на могиле композитора в пантеоне Еревана, В. Белинскому, выполненные в середине пятидесятых годов, отмечены культурой — человеческой и художественной. В своих произведениях как личность он явился воплощением самых светлых и тонких начал человеческой души. Яркая фантазия, поэтичность восприятия жизни насыщают образы произведений скульптора внутренним светом и человеческой добротой.
Все в нем было необыкновенно искренне и просто, как и в его искусстве. Во многие свои произведения скульптор внес всю свою любовь к жизни, свои старания, знания.
Почти каждое произведение – программная работа мастера, верного высшим критериям искусства. Художник был монументалистом, создал прекрасные образцы мемориальной и станковой скульптуры, портреты. Выразительный пластический язык Арутюняна был результатом интересных творческих поисков, изучения традиций древнеармянской скульптуры и живых, острых, эмоциональных жизненных наблюдений. Все это вошло в искусство Арутюняна просто и органично, как красота армянского пейзажа или своеобразие национального склада лица.
 Арутюнян не претендовал на поиски того, что находилось вне природы. Это достоинство древнеармянского зодчества — неразрывную связь с природой, с пейзажем мы видим в декоративном монументе «Львица» (кованая медь). Он установлен у самой дороги над ущельем в Гегарде и как бы охраняет его архитектурные сокровища. Высокий базальтовый цоколь, вызывающий в памяти пилоны египетских храмов, поднимает львицу Гегарда высоко над горами. Ее чеканный силуэт рисуется на фоне неба. Национальный орнамент кажется неотъемлемой частью памятника, связывает его с архитектурой. Эта работа выполнена совместно с архитектором Р. Исраэляном.
Арутюнян не претендовал на поиски того, что находилось вне природы. Это достоинство древнеармянского зодчества — неразрывную связь с природой, с пейзажем мы видим в декоративном монументе «Львица» (кованая медь). Он установлен у самой дороги над ущельем в Гегарде и как бы охраняет его архитектурные сокровища. Высокий базальтовый цоколь, вызывающий в памяти пилоны египетских храмов, поднимает львицу Гегарда высоко над горами. Ее чеканный силуэт рисуется на фоне неба. Национальный орнамент кажется неотъемлемой частью памятника, связывает его с архитектурой. Эта работа выполнена совместно с архитектором Р. Исраэляном.
Сотрудничал Арутюнян и с другими архитекторами — Э. Сарапяном, В. Саркисяном и Д. Торосяном. Интереснейший памятник в честь воинов 89-й Таманской армянской дивизии, погибших в боях за освобождение Севастополя, установленный в окрестностях города-героя, был выполнен совместно с архитектором Джимом Торосяном. Как отмечает искусствовед Р. Аболина, «всем своим строем он как бы утверждает свет, счастье, мир. В основу памятника легла сильно переработанная форма хачкара – камня, украшенного резьбой, устанавливаемого в древности в честь памятных событий. Чуть сужающаяся книзу высокая одиннадцатиметровая гранитная сталь гармонична по своим пропорциям. На ней помещен рельеф из кованой меди – образ светлой, возрожденной к жизни юности, хранящей память о погибших за освобождение Родины» … В этом памятнике органично слились традиции древнеармянской скульптуры с требованиями современности.
Взыскательность скульптора-монументалиста, взгляд на искусство, как на подвиг, вызвали к жизни такие творения, как «Заря», «Памятник героям, павшим за освобождение Зангезура», скульптуры «Юность», главная тема которой — благородство и чистота молодости.
КОНЕЧНО, КАЖДАЯ РАБОТА, БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛАЯ, — ЭТО И ПОИСК ФОРМЫ. Но Арутюнян не отталкивается от формы, а приходит к ней как к способу выражения своих мыслей и чувств. Поэтому он был свободен в работе, форма никогда не довлела над ним. Ну, а манера, стиль — это естественное, как голос. И скульптору не нужно было его напрягать. Он сильный от природы, гибкий, и каждая новая тема находила свое выражение. И было почти закономерностью: после физического и душевного напряжения, которого требуют монументальные работы, скульптор уходил в темы, несущие покой и умиротворение. Все исходило из его видения, его восторженности и вдохновения и представляло собой высшую точку выражения гармонии и красоты.
И что характерно? Каждая из его последних работ изначально молодая. В них нет вялых форм, скованных движений. Скульптор, сам подвижный и порывистый, ищет, даже неосознанно, решения, близкие своему характеру, добиваясь летящих форм, распахнутых чувств.
Одно из больших достижений скульптора — композиция «Ваагн, борющийся с драконом», украшающий северный въезд в Ереван. В стремительном движении легендарного Ваагна – мощь и победоносная сила. Яркий красный туф хорошо сочетается с серым базальтом, из которого как бы вырастает тело трехглавого дракона. Фигура Ваагна, поражающая дракона молниями, кажется возникшей из пламени. Рельеф венчает виноградный лист – знак города, символ скульптуры и архитектуры. Монумент, установленный на широкой равнине, как бы защищает город от всякого зла.
Ереванцы гордятся многими монументальными творениями мастера. В лучших из них мы видим вдохновение, озарение, высокое мастерство, три сливающихся потока времени – прошлое, настоящее и будущее.