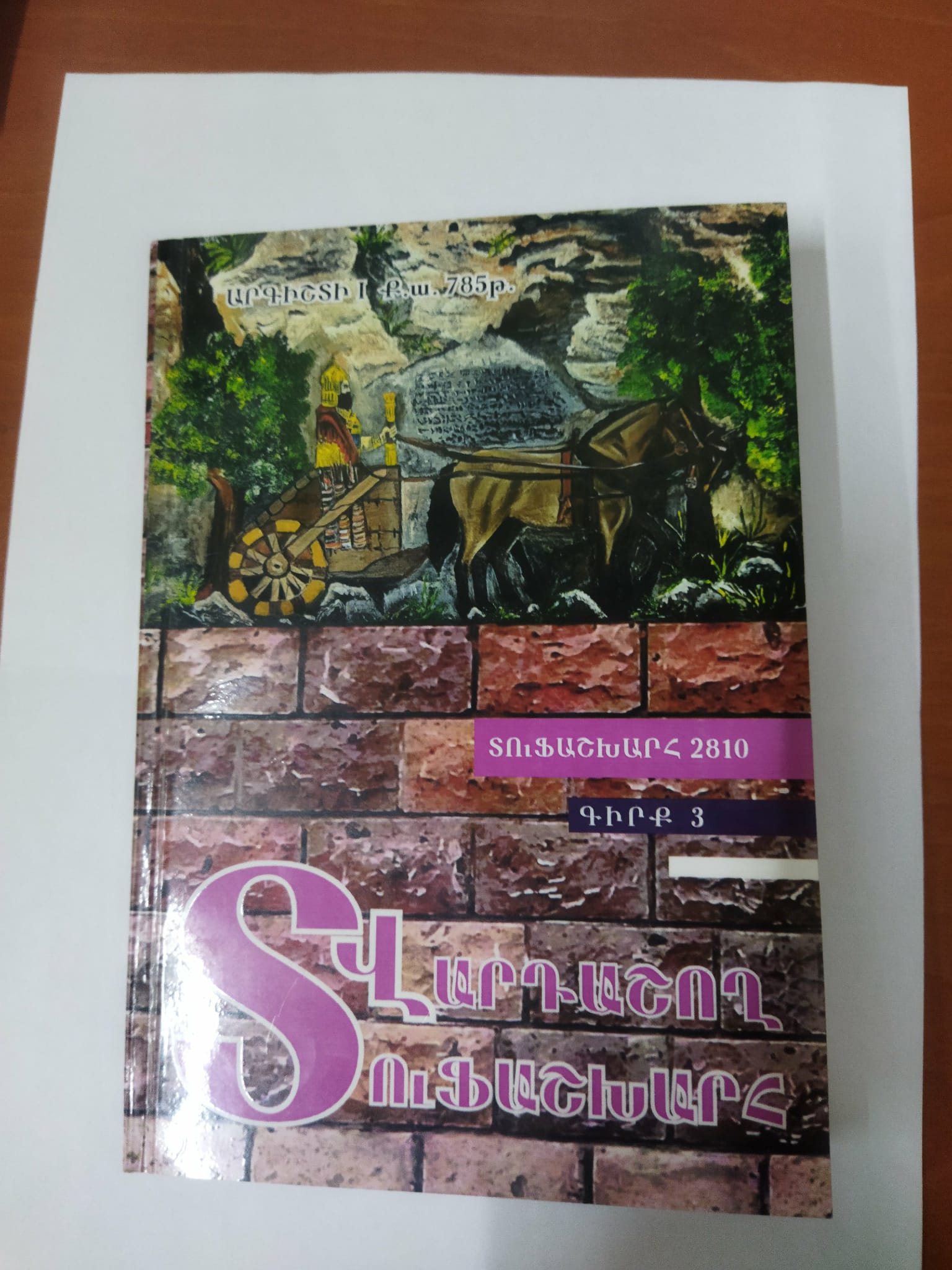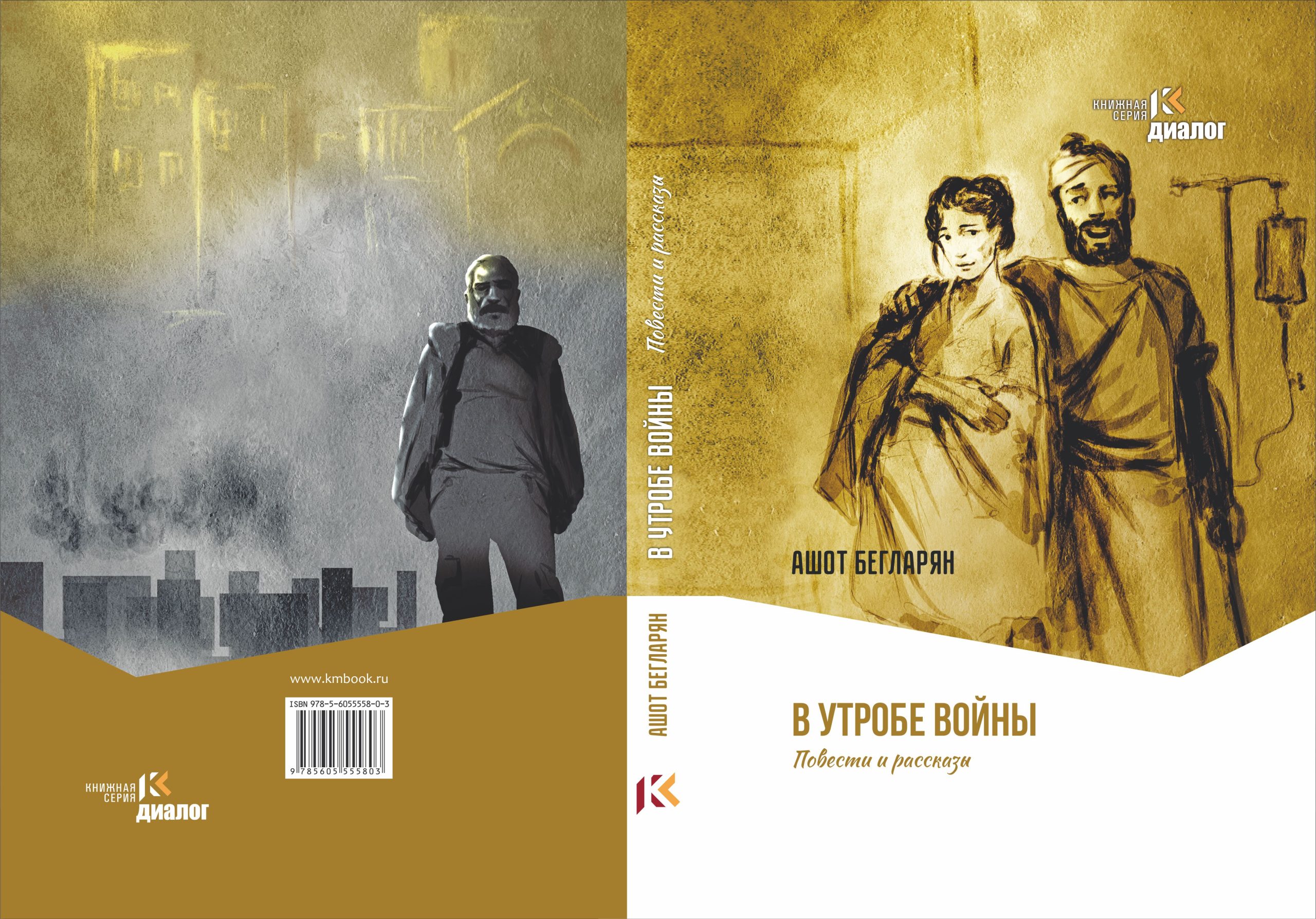Как-то в одной из наших бесед замечательный поэт Михаил Дудин заметил, что поэзия — это не профессия, это Судьба, на которой время скрещивает все свои нервные каналы в один пульсирующий узел, связанный со всеми тревогами времени. Эти слова можно отнести и к поэту Рубену Севаку (Чилинкирян), к его трагической судьбе.
СТО СОРОК ЛЕТ ОТДЕЛЯЮТ НАС ОТ ДАТЫ ЕГО РОЖДЕНИЯ (15 ФЕВРАЛЯ 1885 г.) и сто десять лет со дня его трагической гибели. Погиб он тридцатилетним, не достигнув даже расцвета своего незаурядного таланта, но многое, что он успел сделать, составляют замечательную страницу армянской поэзии. Рубен Севак разделил судьбу всех значительных западноармянских поэтов. Явилось это поколение в мир в больших душевных муках, страданиях, которые шли из веков. Они погибли, когда в 1915 году младотурки стали планомерно осуществлять свой чудовищный акт истребления целой нации, когда по приказу тогдашнего правительства Османской Турции за краткий срок были зверски убиты более миллиона армян. Когда из Константинополя стали выселять и зверски истреблять представителей армянской интеллигенции, которые имели большие заслуги не только в развитие национальной, но и турецкой культуры. От одного перечисления имен перехватывает дыхание: Григор Зограб, Даниел Варужан, Сиаманто, Рубен Зардарян, Арташес Арутюнян, Тлкатинци, Тигран Чёкюрян, Смбат Бюрат…
 Смерть никогда не бывает справедливой. А смерть Рубена Севака и западноармянских деятелей культуры его поколения – особенно. Они насильственно были вырваны из жизни, не реализовав и четверти того, что могли. И все, чем одарила их судьба – талантом, горением, преданностью – все это было уничтожено одним ударом.
Смерть никогда не бывает справедливой. А смерть Рубена Севака и западноармянских деятелей культуры его поколения – особенно. Они насильственно были вырваны из жизни, не реализовав и четверти того, что могли. И все, чем одарила их судьба – талантом, горением, преданностью – все это было уничтожено одним ударом.
Сегодня, рассматривая портреты Севака, читая его ранние стихи, где не раз упоминается тема смерти, кажется, что видишь в чертах его лица трагическое предначертание судьбы. Таково свойство человеческой натуры – проецировать наши знания о гибели человека на всю его предшествующую жизнь. Еще за четыре года до гибели он писал: «Мне хочется, прежде чем окончательно вернусь на родину, съездить в Венецию и провести там хотя бы весну – одну из считанных весен, что мне предстоят,- и, предчувствуя смерть, ощутить, что живу». Как тут отделить мистику от реальности? Какие силы приближают написанное поэтом к реальности, да еще с таким трагическим исходом, когда смерть – не завершение жизни, а обрыв?
Порой поэзия Рубена Севака пленяет нас необузданным романтическим порывом, порой ранит в самое сердце полной драматизма мелодией, как в стихотворении «Моя душа».
Я увидал больной листок в траве зеленой.
Весна была такой прекрасной, окрыленной,
и ликовали луг и пестроцветье трав,
хмель солнечных лучей сполна в себя вобрав.
Но в эту дивную минуту, изумленный,
я увидал больной листок в траве зеленой;
он трепетал и ник, смиряя гордый нрав,
едва лишь ветерком тянуло из дубрав.
Я в руки взял его и, преисполнен скорби,
в слезах прижал к губам, неловко плечи горбя
и думая: о жизнь, горьки твои дары…
Моя душа – листок, увядший до поры.
Кругом сияет май все радостней и краше,
а ей невмочь ни петь, ни улыбнуться даже.
Я увидал больной листок в траве зеленой. (1907)
Перед нами – страждущая, совестливая душа поэта, чьи страстные, патетические слова возвышаются до вселенской скорби. Элегические и тревожные интонации решительно перевешивают у него бодрые, радостные настроения.
 ТВОРЧЕСТВО РУБЕНА СЕВАКА СТАЛО ДОСТОЯНИЕМ И РУССКОЯЗЫЧНОГО ЧИТАТЕЛЯ во многом благодаря замечательным переводам Георгия Кубатьяна, которые вышли два десятилетия назад в ереванском издательстве «Ван Арьян» под названием «Багровая тоска». Отмечены они высоким мастерством, как и переводы поэзии Варужана Мецаренца и других западноармянских и современных поэтов.Не случайно лучшие его переводы обогатили русскую поэзию, стали достоянием и русской культуры.
ТВОРЧЕСТВО РУБЕНА СЕВАКА СТАЛО ДОСТОЯНИЕМ И РУССКОЯЗЫЧНОГО ЧИТАТЕЛЯ во многом благодаря замечательным переводам Георгия Кубатьяна, которые вышли два десятилетия назад в ереванском издательстве «Ван Арьян» под названием «Багровая тоска». Отмечены они высоким мастерством, как и переводы поэзии Варужана Мецаренца и других западноармянских и современных поэтов.Не случайно лучшие его переводы обогатили русскую поэзию, стали достоянием и русской культуры.
Перевод поэзии Рубена Севака требовал особых усилий. Отмечая своеобразие его поэтической манеры, Кубатьян в своей вступительной статье пишет: «Севак из тех, кого принято называть сложными поэтами. Сложен его синтаксис, его длинные, сбивчивые, временами захлебывающиеся периоды. Многообразен и многослоен его словарь, а нечастые вроде бы неологизмы так изобретательны, что, переводя, не знаешь, как к ним и подступиться… Усугубленная неординарным умом и незаемной интонацией, оригинальным взглядом на мир и крепкими национальными корнями, эта внешняя, формальная сложность оказывается сложностью содержательной. Пренебречь ею значит исказить поэта, намеренно выставить его в упрощенном облике; в таких именно случаях и говорят, что простота хуже воровства».
Сборник, куда вошла только лирика, представляет русскоязычному читателю поэта высокой души, истинного патриота и гражданина. Мы слышим свободную и сильную, истинно поэтическую речь, глубокую и печальную. Как известно, за свою недолгую, всего 30-летнюю жизнь Рубен Севак издал всего одну книгу, но армянскую литературу начала века невозможно представить без его имени.
По мнению Кубатьяна, «судьба Севака по-своему подтверждает, что геноцид, от которого Турция до сих пор открещивается, был именно Геноцидом, а не совокупностью «досадных инцидентов», имевших место в пору военной неразберихи. Вдумайтесь: Янни, жена Севака, была гражданкой Германии, дочерью полковника. Турция состояла союзницей Германии. Янни сделала все, чтобы спасти мужа, но немецкий посол Вагенгейм, обвинив ее в отсутствии патриотизма, не рискнул вступиться за офицера союзной армии (Севака, как и всех военнообязанных армян, турки не преминули призвать в свои «доблестные» ряды) Не рискнул, потому что понимал: осуществляется целенаправленная, планомерная политика и становиться поперек дороги себе дороже… Что оставалось Янни? Отречься от германского паспорта, переехать во Францию, говорить с детьми только по-французски, а во время Второй мировой благословить сына Левона Севака – на войну с немцами…»
 В ЛИРИКЕ РУБЕНА СЕВАКА ВОПЛОЩЕНА ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА МИРОВОЗЗРЕНИЯ АВТОРА и вместе с тем отражены существенные черты западноармянской интеллигенции того времени – ее смятение и тревога, неотступное чувство катастрофы. Гнев и тревога – именно эти слова ближе и точнее всего обозначают суть поэзии Севака. Трагическое ощущение эпохи проникает не только в его лирику, но и в бытие поэта. Кровавые события в Турции в 1909 году, на которые поэт откликнулся своей «Красной книгой», потрясают его личный мир, приобщая его судьбу к судьбе родного народа.
В ЛИРИКЕ РУБЕНА СЕВАКА ВОПЛОЩЕНА ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА МИРОВОЗЗРЕНИЯ АВТОРА и вместе с тем отражены существенные черты западноармянской интеллигенции того времени – ее смятение и тревога, неотступное чувство катастрофы. Гнев и тревога – именно эти слова ближе и точнее всего обозначают суть поэзии Севака. Трагическое ощущение эпохи проникает не только в его лирику, но и в бытие поэта. Кровавые события в Турции в 1909 году, на которые поэт откликнулся своей «Красной книгой», потрясают его личный мир, приобщая его судьбу к судьбе родного народа.
Под пером поэта рождаются самые драматические стихи, проникнутые пафосом душевного страдания, гнева и боли. Это и «Предчувствие смерти», «Песня о любви и смерти», «Радостная смерть», «Кто-то там плакал» и многие другие. Личное в этих стихах неотделимо от сложного образа катастрофического мира, голосом которого говорит поэт. Только предчувствуя свой близкий конец и неотвратимую трагедию своего народа, человек жаждет запечатлеть в жизни лучшие движения собственной души. Только предполагая печальный жизненный итог, стремится оставить потомкам добрую память о себе, создает творения, которые с полным правом позволяют поставить его в ряд лучших армянских поэтов. Вслушайтесь в голос поэта:
…Грудь родины пронзили молнии,
окрест меня – озера крови полные,
я знаю, что сулят мне годы дольные,
и песнь пою тебе.
Но коли вдруг меня из строя выбили
и я угаснул – в бытие ли, на дыбе ли,-
пусть храбрые апостолы погибели
песнь воспоют тебе.
В увековечении памяти поэта особую роль сыграл его племянник Ованес Чилинкирян, который родился после гибели Севака. «Отдав три последние десятилетия литературному наследию поэта, собиранию реликвий, связанных с ним, и популяризации его стихов, Ованес Чилинкирян словно продолжает и продлевает его земное бытие, — рассказывает в предисловии к сборнику Шаэн Хачатрян. – Чилинкирян живет в Ницце. В этом же городе жила и была похоронена вдова поэта Янни. Здесь живет и его дочь Шамирам, которой исполнился год, когда погиб отец… Дочь поэта хорошо знают во Франции. Недаром, когда в Париже открывался большой памятник великому Комитасу и в его лице жертвам Геноцида, от имени армянской общины наряду с Шарлем Азнавуром выступила и Шамирам Севак».
Время открывает истинную цену созданного Рубеном Севаком. И в его поэзии мы находим все больше глубины и прозрения, испытывая на себе ее неотразимое очарование.