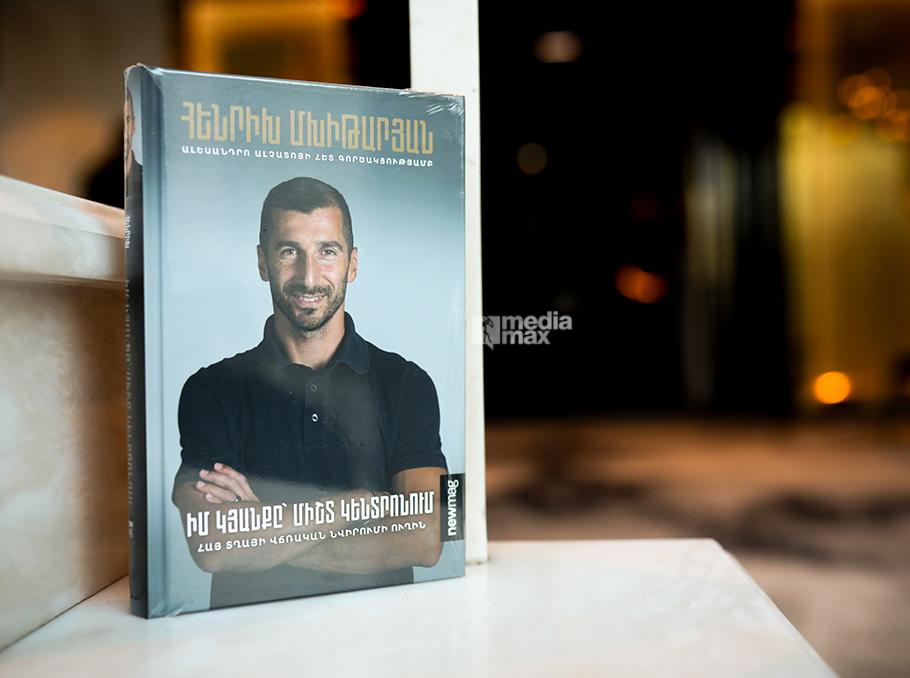К 140-летию со дня рождения А.Спендиарова
Удивительный был музыкант! — писал Иоаннес Романович Налбандян. — Весь наполнен искусством, напоминал этим старых мастеров — Бетховена, Моцарта… В жизни он был страшно рассеян, в музыке — собран".
Была еще одна важная черта в юном Спендиарове, которая сделала из него впоследствии непревзойденного музыкального солиста. Черта эта — необыкновенная строгость, безупречный вкус. Именно эти качества позволили ему писать вещи столь совершенные, ровно как и доводить уже написанное до изысканной чистоты стиля. Это и придавало большое обаяние спендиаровским вещам. А строг он был чрезвычайно. Поразительно, что в юности, впервые придя на оперный спектакль в Одессе (давалась "Аида" Верди), он был рассержен тем, что оркестр фальшивил. А ведь это было его первое посещение оперы, да еще в такую пору жизни, когда многие другие юноши в силу одной уже специфики возраста бывают менее требовательны к недостаткам. Но таким уж он был: цельным, постоянным, не умевшим изменять себе.
 Зато как радовался он настоящему искусству, как рукоплескал год спустя в Вене! "Я был потрясен чудным, полным, сочным звуком оркестра и очарован пряными, экзотическими мелодиями и гармониями оперы", — писал он в автобиографии. И продолжал: "Ошеломленный, я вышел из театра, мечтая, как о высшем счастье, услышать когда-нибудь свое произведение в исполнении такого же оркестра. Несомненно, что с этого момента во мне зародилась особенная любовь к оркестру и стала укрепляться любовь к экзотическому колориту в музыке".
Зато как радовался он настоящему искусству, как рукоплескал год спустя в Вене! "Я был потрясен чудным, полным, сочным звуком оркестра и очарован пряными, экзотическими мелодиями и гармониями оперы", — писал он в автобиографии. И продолжал: "Ошеломленный, я вышел из театра, мечтая, как о высшем счастье, услышать когда-нибудь свое произведение в исполнении такого же оркестра. Несомненно, что с этого момента во мне зародилась особенная любовь к оркестру и стала укрепляться любовь к экзотическому колориту в музыке".
Старых мастеров, о которых пишет Налбандян, он напоминал и своей всепоглощающей любовью к природе. Природа жила в нем, она возвращала ему душевное равновесие, как некогда Бетховену, любимые пейзажи всегда творчески заряжали его. В Крыму это были море и закаты. "Займемся-ка двумя делами: будем работать и любоваться закатом", — говорил он либреттистке Софье Яковлевне Парнок. В Армении неизменное восхищение его вызывал Арарат. "Окно мое каждую минуту дает мне счастье: разнообразные моменты освещения великолепного Масиса. Как часто он меняет цвет!.. Масис заменяет мне море".
Когда он смотрел в окно на Цицернакаберд, однообразие которого подавляло его, он не мог работать. Ему трудно было выносить эту скудость и пустынность пейзажа, и тогда он шел за ворота, чтобы полюбоваться Араратом, плывущим в далекой дали. Именно этот небесный вид вдохнул в него силы и порыв написать "Эриванские этюды".
И Зангу говорила с ним в тихие минуты прогулок и долгой сосредоточенности. "Брось все, пойди посмотри, какая красота!" — сказал он сыну, вернувшись домой после поездки в ущелье незадолго до смерти. Шум реки поражал его своей скрытой музыкальностью. "Слышите этот шум? Не напоминает ли он вам журчание воды в музыке Листа?"
 Он и к восточным мелодиям подходил как старый мастер. Детское удивление и чистая влюбленность во вновь открытый мир владели тогда им. "Это особая манера восточной музыки — наслаждение певца звуком, переливами, затейливыми украшениями, как фантастические фрески древних зданий…" Восток жил в нем. Он никогда не покидал его сердце. Восточный колорит музыки давался ему легко, он никогда не брал его из вторых рук, никогда не прибегал к стилизации, как это делали подчас увлеченные ориентализмом композиторы. Начиная от татарских песен и кончая горячим прикосновением к подлинной армянской музыке он всегда по-настоящему работал лишь на этом восточном материале, резко отличном от всего того, чему учила его северная лира в годы московского и петербургского приобщения к русской музыкальной культуре. Синтез, слияние двух музыкальных миров: русского и армянского? Бесспорно. Но тяга к восточному, как он говорил, "экзотическому колориту в музыке", оставалась превалирующей, подавляющей.
Он и к восточным мелодиям подходил как старый мастер. Детское удивление и чистая влюбленность во вновь открытый мир владели тогда им. "Это особая манера восточной музыки — наслаждение певца звуком, переливами, затейливыми украшениями, как фантастические фрески древних зданий…" Восток жил в нем. Он никогда не покидал его сердце. Восточный колорит музыки давался ему легко, он никогда не брал его из вторых рук, никогда не прибегал к стилизации, как это делали подчас увлеченные ориентализмом композиторы. Начиная от татарских песен и кончая горячим прикосновением к подлинной армянской музыке он всегда по-настоящему работал лишь на этом восточном материале, резко отличном от всего того, чему учила его северная лира в годы московского и петербургского приобщения к русской музыкальной культуре. Синтез, слияние двух музыкальных миров: русского и армянского? Бесспорно. Но тяга к восточному, как он говорил, "экзотическому колориту в музыке", оставалась превалирующей, подавляющей.
Наши гены старше нас. В самой русской литературе выбирал он вещи, навеянные югом, восточным бытом, тяготеющие к библейским сказаниям, откровенно рисующие жизнь полдневных стран. Лермонтов с его "Тремя пальмами", "Веткой Палестины" и "Бэлой" (вариант сюжета ненаписанной оперы) далеко не случаен в этом списке увлечений. У Куприна он выбрал "Бахчисарайский фонтан". Потом увлекся Ара Прекрасным и Семирамидой. Суть не в том, что ни один из последних замыслов не был воплощен, суть в самом выборе текстов — выборе весьма характерном, после которого особенно понятны слова его учителя Николая Андреевича Римского-Корсакова: "Вы по самому рождению своему человек восточный, у вас Восток, что называется, в крови… Это не то, что я, у меня мой Восток несколько головной, умозрительный".
Когда на премьере балета на музыку его "Трех пальм", поставленного в Берлине балетмейстером Фокиным, Спендиаров оказался рядом с Артуром Никишем и Рихардом Штраусом, они стали восхищаться подлинностью восточного колорита "Трех пальм", а потом спросили его, как он этого добился, Спендиаров ответил: "Я армянин". После этого вопросов у немецких коллег уже не возникало.
 Он напоминал старых мастеров еще и своей добротой и неизменной учтивостью. Все писавшие его словесный портрет говорили о его добром взгляде, добрых глазах, увеличенных стеклами очков. Немолодой уже, неторопливый, очень сердечный человек, по-детски радовавшийся успехам своих учеников, — таким запомнился он в свою ереванскую пору. Деликатен был в степени огромной. Однажды, выйдя из консерватории со своим учеником — виолончелистом Артемием Айвазяном, он сказал как о чем-то очень обыденном, неважном, пустячном: "А мне на Конд, но я не в силах идти". Эта была чрезвычайная деликатность хорошо воспитанного человека. У него болели ноги, но в те нелегкие годы становления он не решался идти со своими мелкими, как ему казалось, заботами к людям, занятым важными государственными делами.
Он напоминал старых мастеров еще и своей добротой и неизменной учтивостью. Все писавшие его словесный портрет говорили о его добром взгляде, добрых глазах, увеличенных стеклами очков. Немолодой уже, неторопливый, очень сердечный человек, по-детски радовавшийся успехам своих учеников, — таким запомнился он в свою ереванскую пору. Деликатен был в степени огромной. Однажды, выйдя из консерватории со своим учеником — виолончелистом Артемием Айвазяном, он сказал как о чем-то очень обыденном, неважном, пустячном: "А мне на Конд, но я не в силах идти". Эта была чрезвычайная деликатность хорошо воспитанного человека. У него болели ноги, но в те нелегкие годы становления он не решался идти со своими мелкими, как ему казалось, заботами к людям, занятым важными государственными делами.
В самом типе таких людей есть что-то обаятельное. Он и писал свои бессмертные произведения так же тихо, без трескотни и шумихи. Работал медленно, с увлечением, с той особой тщательностью, которая тоже отличала старых мастеров. Вообще медлительный, долго не приступающий к музыкальному письму, вынашивающий замыслы неделями и месяцами, он вдруг становился нервен, оживлен, воодушевлялся с быстротой молнии в горячие моменты любовных увлечений. Так бывало не раз — музыка лилась потоком неиссякаемым, один за другим возникали новые замыслы. Так написаны почти все его романсы. Потом наступал спад… и долгое творческое молчание. Хандра, неверие в свои силы терзали тогда его. Но, к счастью, страсти повторялись, повторялись и светлые периоды запойного творчества, вызванные новым мощным приливом сил, увлеченным чтением стихов. Он всегда любил своих героев и героинь пламенной любовью, а Алмаст до самого последнего часа видел в каждой красивой армянке.
…Однажды Айвазовский, как некогда Глинке, наигрывал Спендиарову татарские напевы родного Крыма. Это было торжественно и священно. "Крымские эскизы" Спендиарова посвящены памяти Ивана Константиновича Айвазовского, а самого Спендиарова многие звали потом Глинкой.
Он и из жизни ушел тихо, незаметно. Не мог отказать ученикам и поехал с ними повеселиться. А был уже болен. Но тяга к уюту, семейной атмосфере была сильна в нем. И он сдался. Это была та великая любовь к человеческому теплу, к очагу, которая всегда жила в нем и которая когда-то в Крыму нашептала ему одно из лучших его созданий — нежную "Восточную колыбельную".
Он был во всем как старые мастера. Он оставил нам щедрое наследство. В этом тоже сказались широта его натуры и удивительная доброта. Он оставил нам пример святого служения родной земле и высокое сознание своей сыновней обязанности. Если бы он даже не написал своих бессмертных творений, уже одного этого достаточно было бы для того, чтобы мы воздвигли в своих сердцах памятник его личности. "Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты", — сказал некогда Бетховен. Неосознанно, не ставя себе такой цели, шел к такому превосходству Спендиаров. Шел всей жизнью, всем творчеством, прекрасным личным примером. "…И ветви мои, и крепчайшие корни". Он до конца отдал свой долг этим корням.