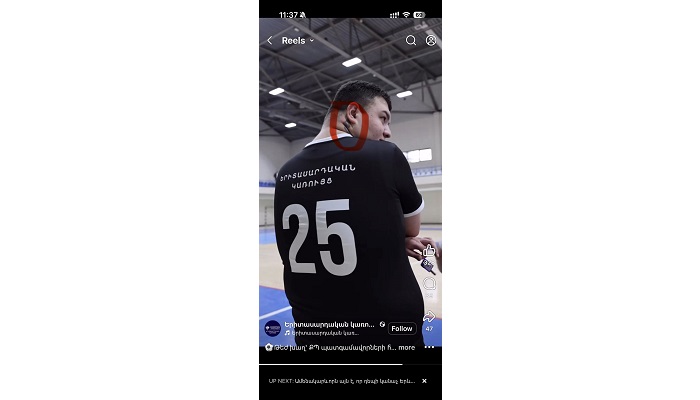На входе у дома 18а по столичному проспекту Баграмяна, где жила и работала академик Национальной Академии наук Армении, лауреат многих международных премий Тина Левановна Асатиани, на минувшей неделе появилась мемориальная доска. Открытие прошло в многолюдной торжественной обстановке, что вполне понятно — ведь Тина Левановна была человеком, широко известным в научном сообществе не только Армении, но и Грузии, России и других стран.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ТИНА АСАТИАНИ ВКЛАДЫВАЛА СВОЙ ТАЛАНТ и труд ученого в развитие физики космических лучей в Армении. Уроженка Тбилиси, аспирантка Ленинградского физико-технического университета, она впервые увидела Армению в 1942 году, когда братья Алиханяны приступили к организации лаборатории по исследованию космических лучей на горе Арагац. С тех пор Арагац стал ее судьбой. С ним оказалась связанной не только ее дальнейшая научная деятельность, но и жизнь вообще.
Именно здесь, в поднебесье, Тина Левановна познакомилась со своим будущим мужем, физиком Аршалуйсом Тиграновичем Дадаяном и навсегда осталась в Армении. О грузинской дочери Армении писали много — и в нашей стране, ставшей ей родным домом, и в Грузии, где ее высоко ценили (орден Чести, звание почетного тбилисца), и в московских СМИ: женщина — лауреат Ленинской премии в области физики, да еще со станции на таинственном Арагаце — благодатная тема для журналистов. «Охота» на частицы, начатая на Арагаце (ее кандидатская была посвящена широким атмосферным ливням), была продолжена на построенном в Ереване ускорителе. Разработка трековых искровых камер принесла Асатиани не только звание доктора физико-математических наук — в 1970 году ей вместе с Артемом Алиханяном была присуждена Ленинская премия.
 Тина Левановна была человеком, безгранично преданным науке. Она автор более 250 публикаций, монографий, статей, на которых и сегодня учатся физики. Но было бы неверно — и это подчеркивали все выступавшие на импровизированном митинге в честь открытия мемориальной доски — измерять ее вклад в жизнь страны лишь исследованиями. Ее ученики — а она воспитала многих ученых — учились у нее не только законам физики, но и, что не менее важно, законам доброты и бескорыстия. И именно эта ее душевная щедрость, как и высокая научная деятельность, снискали ей уважение всех, кто общался, или, как сейчас говорят, пересекался с ней. После Спитакского землетрясения она взяла на себя заботу об инвалидах-спинальниках, навсегда прикованных к коляске. «Сейчас многие пытаются предстать первооткрывателями помощи инвалидам, — сказал руководитель общества инвалидов-спинальников «Унисон» Армен Алавердян, — но именно Тина Асатиани была первой, кто старался переломить отношение к инвалидам в нашей стране».
Тина Левановна была человеком, безгранично преданным науке. Она автор более 250 публикаций, монографий, статей, на которых и сегодня учатся физики. Но было бы неверно — и это подчеркивали все выступавшие на импровизированном митинге в честь открытия мемориальной доски — измерять ее вклад в жизнь страны лишь исследованиями. Ее ученики — а она воспитала многих ученых — учились у нее не только законам физики, но и, что не менее важно, законам доброты и бескорыстия. И именно эта ее душевная щедрость, как и высокая научная деятельность, снискали ей уважение всех, кто общался, или, как сейчас говорят, пересекался с ней. После Спитакского землетрясения она взяла на себя заботу об инвалидах-спинальниках, навсегда прикованных к коляске. «Сейчас многие пытаются предстать первооткрывателями помощи инвалидам, — сказал руководитель общества инвалидов-спинальников «Унисон» Армен Алавердян, — но именно Тина Асатиани была первой, кто старался переломить отношение к инвалидам в нашей стране».
На открытии мемориальной доски выступил посол Грузии в Армении Тенгиз Шарманашвили, отметивший, как много делала Тина Асатиани для укрепления связей между своими двумя родинами — Грузией и Арменией. Почтить ее память пришли академики Юрий Шукурян, Юрий Чилингарян, Роберт Авакян, профессора Рубен Лазиев, Аэлита Данагулян и другие, сотрудники Ереванского института физики, в котором она работала с момента его создания, инвалиды-спинальники и их хор «Парос», лауреат многих международных конкурсов, дорога к успеху которых была также проложена Тиной Асатиани. Хорошо, когда жизнь прожита так, что и после смерти о тебе говорят с такой искренностью и душевной теплотой.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ТИНА АСАТИАНИ ВКЛАДЫВАЛА СВОЙ ТАЛАНТ и труд ученого в развитие физики космических лучей в Армении. Уроженка Тбилиси, аспирантка Ленинградского физико-технического университета, она впервые увидела Армению в 1942 году, когда братья Алиханяны приступили к организации лаборатории по исследованию космических лучей на горе Арагац. С тех пор Арагац стал ее судьбой. С ним оказалась связанной не только ее дальнейшая научная деятельность, но и жизнь вообще.
Именно здесь, в поднебесье, Тина Левановна познакомилась со своим будущим мужем, физиком Аршалуйсом Тиграновичем Дадаяном и навсегда осталась в Армении. О грузинской дочери Армении писали много — и в нашей стране, ставшей ей родным домом, и в Грузии, где ее высоко ценили (орден Чести, звание почетного тбилисца), и в московских СМИ: женщина — лауреат Ленинской премии в области физики, да еще со станции на таинственном Арагаце — благодатная тема для журналистов. «Охота» на частицы, начатая на Арагаце (ее кандидатская была посвящена широким атмосферным ливням), была продолжена на построенном в Ереване ускорителе. Разработка трековых искровых камер принесла Асатиани не только звание доктора физико-математических наук — в 1970 году ей вместе с Артемом Алиханяном была присуждена Ленинская премия.
 Тина Левановна была человеком, безгранично преданным науке. Она автор более 250 публикаций, монографий, статей, на которых и сегодня учатся физики. Но было бы неверно — и это подчеркивали все выступавшие на импровизированном митинге в честь открытия мемориальной доски — измерять ее вклад в жизнь страны лишь исследованиями. Ее ученики — а она воспитала многих ученых — учились у нее не только законам физики, но и, что не менее важно, законам доброты и бескорыстия. И именно эта ее душевная щедрость, как и высокая научная деятельность, снискали ей уважение всех, кто общался, или, как сейчас говорят, пересекался с ней. После Спитакского землетрясения она взяла на себя заботу об инвалидах-спинальниках, навсегда прикованных к коляске. «Сейчас многие пытаются предстать первооткрывателями помощи инвалидам, — сказал руководитель общества инвалидов-спинальников «Унисон» Армен Алавердян, — но именно Тина Асатиани была первой, кто старался переломить отношение к инвалидам в нашей стране».
Тина Левановна была человеком, безгранично преданным науке. Она автор более 250 публикаций, монографий, статей, на которых и сегодня учатся физики. Но было бы неверно — и это подчеркивали все выступавшие на импровизированном митинге в честь открытия мемориальной доски — измерять ее вклад в жизнь страны лишь исследованиями. Ее ученики — а она воспитала многих ученых — учились у нее не только законам физики, но и, что не менее важно, законам доброты и бескорыстия. И именно эта ее душевная щедрость, как и высокая научная деятельность, снискали ей уважение всех, кто общался, или, как сейчас говорят, пересекался с ней. После Спитакского землетрясения она взяла на себя заботу об инвалидах-спинальниках, навсегда прикованных к коляске. «Сейчас многие пытаются предстать первооткрывателями помощи инвалидам, — сказал руководитель общества инвалидов-спинальников «Унисон» Армен Алавердян, — но именно Тина Асатиани была первой, кто старался переломить отношение к инвалидам в нашей стране».
На открытии мемориальной доски выступил посол Грузии в Армении Тенгиз Шарманашвили, отметивший, как много делала Тина Асатиани для укрепления связей между своими двумя родинами — Грузией и Арменией. Почтить ее память пришли академики Юрий Шукурян, Юрий Чилингарян, Роберт Авакян, профессора Рубен Лазиев, Аэлита Данагулян и другие, сотрудники Ереванского института физики, в котором она работала с момента его создания, инвалиды-спинальники и их хор «Парос», лауреат многих международных конкурсов, дорога к успеху которых была также проложена Тиной Асатиани. Хорошо, когда жизнь прожита так, что и после смерти о тебе говорят с такой искренностью и душевной теплотой.