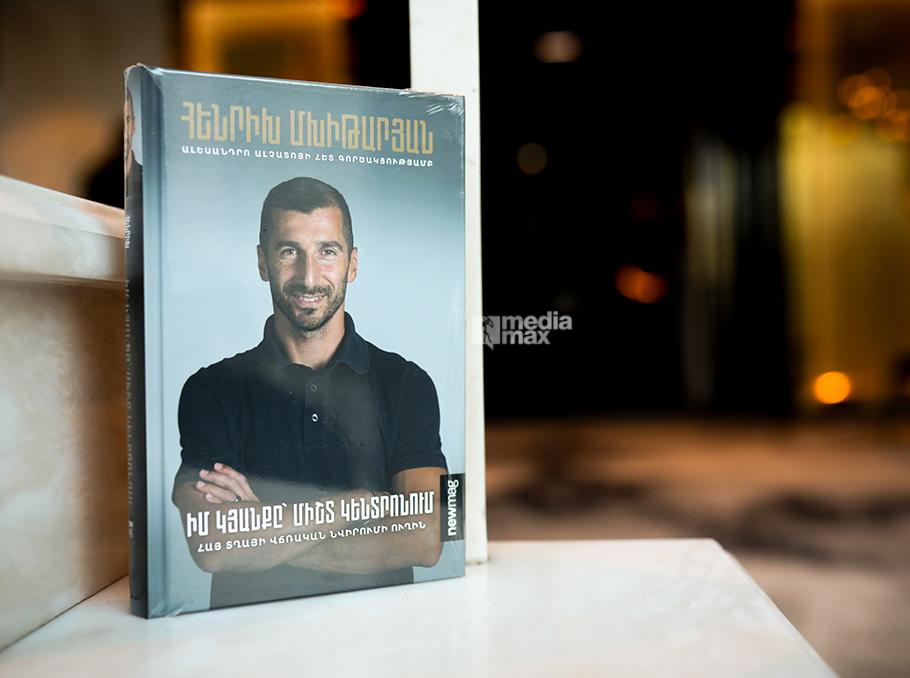Это сладкое слово "свобода!" Это гордое слово "независимость!" Почему захваченный временем дух куда-то канул и вот уже двадцать лет не возвращается? Почему мы все чаще бормочем: "Мне вчера дали свободу — что я с ней делать буду?", почему все чаще твердим: "За что боролись, на то и напоролись?"
— Рубен Георгиевич, каковы, на ваш взгляд, главные наши обретения и потери на двадцатилетнем пути национальной независимости?
— Главное и, пожалуй, единственное приобретение — это то, что люди поняли — понятие "независимость" состоит из двух важных составляющих: идеи и ее реализации. Пока независимость не стала реальностью, всем казалось, что это только красивая идея, поэтому все были намного более воодушевлены, полны энтузиазма. А потом независимость провозгласили, и начался этап ее воплощения в жизнь. Мы — народ, любящий мифы, хотя знаем и их пользу, и их вред. Здесь было очень важно, чтобы воплощаемая реальность была хоть как-то приближена к мифу. Этого не произошло. И сейчас происходит обратное: предъявляют претензии идее. Из-за ошибок, просчетов в реализации обвиняют миф: "Наверное, мы были не готовы, наверное, не стоило". С такими умонастроениями в нашей стране можно столкнуться чуть ли не на каждом шагу. И всю вину уже готовы свалить на независимость, что не только неправильно, но просто опасно. Потому что когда люди начинают попирать самое святое, значит, произошло худшее — они не видят перспективы.
— И почему из всех возможных вариантов произошло это самое худшее?
— Переход от идеи к реализации продлился слишком долго, а, поскольку шла она очень неправильно, мы встали перед социальным кризисом. И это самое печальное. Людей власти, государственную систему можно изменить, но выправить тот излом, который произошел в людях, — вот это очень и очень трудная задача. У нас ведь все смешалось: власть приравнена к государству, дурная репутация одного человека ложится пятном на партию или политическую силу, к которой он принадлежит. И нет той прослойки, элиты, которая должна была заниматься изучением всех причинно-следственных связей, объяснять, что если такой-то — вор и негодяй, это не значит, что таковы все. Что если в государстве проблемы, это не вина независимости. Мы и так потеряли слишком много хороших идей, которые были объявлены "советскими".
В начале прошлого века у нас уже была попытка строительства государства, и хотя тогда его пытались призвать к жизни буквально из хаоса, когда оглядываешься, понимаешь, что за два года Первой Республики было предпринято гораздо больше правильных шагов. А что произошло на этот раз? Те, кто прямо участвовал в революции, тогдашние лидеры, руководители движения — у них не было никакого опыта строительства государства. У них не было ни практики, ни соответствующего государственного мышления. Они поставили крест на кадрах, которые имелись в стране, всех объявили вне игры. А там были готовые министры, директора. И не были они апологетами коммунизма, а просто парни, полные патриотизма. Слава богу, мне приходилось общаться и с секретарями, и с министрами. А тут сделали революцию, отстранили всех опытных людей, вытащили за уши на свет божий своих сотоварищей: "Ты будешь главой полиции, ты — сельского хозяйства". После провозглашения независимости кадровая политика изначально была поставлена на неправильные рельсы. Не говоря обо всем остальном — как это должно было происходить, поэтапно или в одночасье? "Шоковая терапия", любимое детище Багратяна, это же делалось из страха, что что-то может быть восстановлено. Занимались ведь больше разрушением, чем закладыванием основ нового. Во времена, когда я еще встречался и общался с Левоном Тер-Петросяном, он говорил: "Мы победили, и будет так, как хотим мы. Вот когда победите вы, делайте что хотите". Вот такая логика, такой подход.
— Вы считаете, что с тех пор она изменилась?
— Ну этот подход настолько укоренен, что уже кажется нам единственно возможным образом жизни. Если ты пришел что-то изменить, надо соразмерять свои силы, а иначе ты станешь вредить своим же собственным идеям. И причем цель твоя должна быть не только посильна, но и понятна. Я вот не понимаю, зачем надо было вот так все разрушать. Я не пропагандирую советскую экономическую систему, но нельзя же было все делать по-разбойничьи, по-воровски. Как случилось, что продукция, которая пять дней назад пользовалась спросом, в одночасье оказалась не нужной? Неужели мир так продвинулся за неделю? Такое варварское уничтожение кадров, а вместе с ними и хозяйства произошло только у нас. Ведь в первые годы почти все руководители республик остались на своих местах, а значит, и со своими командами профессионалов. Так что я думаю, большинство наших провалов было заложено еще на старте. И, к сожалению, они, чем дальше, тем страшнее. Углубляемся в дебри джунглей. И если не случится — не хочу употреблять слова "чудо" — так, что что-то всерьез начнет меняться, это рано или поздно рикошетом ударит и по независимости.
— Ну независимость-то так или иначе относительная — при наших возможностях и географическом положении…
— Мы, к сожалению, слишком часто сравниваем себя то с тем, то с этим. У каждого народа, у каждой страны свой менталитет и свои границы, и когда ты начинаешь сравнения вне своего формата, не зная ни чужой ментальности, ни чужих потенций, всегда можно сесть в лужу. Что мы и делали на протяжении всей своей истории. Я хорошо понимаю трагедию слабого, но у него нет иного выхода. Он должен не пытаться кого-то передразнивать или проситься к кому-то под крыло, он должен найти себя в своих границах. И это обязательно вызовет интерес. А когда появляется интерес, к тебе начинает относиться с уважением даже сильный. Между прочим, именно таким явлением стало Карабахское движение. Еще не было парада независимостей, не было даже выстрелов на границе, но нас стали уважать. К нам же приезжали со всего Союза учиться: как вам это удалось? Ты не выпендрился, а просто сделал характерный для себя шаг, заявил о себе: вот такой я человек! И наша победа в войне была обусловлена в том числе и этим отношением, и этим уважением. Ведь нас могли раздавить одним пальцем. А сейчас нас перестают уважать. Потому что мы перестали проявляться подобным образом.
— 20 лет назад Карабах стал беспрецедентной идеей, объединившей нацию. Она претерпела трансформацию?
— Независимость, Карабах, победа — это все категории однородные. Здесь открывается большое поле для идеологии и пропаганды, а мы на него не ступили. А человек спокойно сравнивает — раньше у меня была работа, я, не напрягаясь, содержал семью, дети учились. Теперь всего этого нет. Это сравнение он проделывает очень легко, и опять не в пользу независимости и Карабаха. Но ведь и здесь есть источники, которые питают такое отношение. Когда Роберт Кочарян был избран в первый раз, он собрал нас, группу поддержки, как бы держать совет, что делать дальше. У меня было несколько пунктов, среди которых один: было бы хорошо, чтобы не только из Карабаха приезжали сюда, что естественно — здесь центр самоидентификации нации, культуры, образования — но и отсюда специалисты ехали в Карабах преподавать, строить. Этого не случилось. Опять же практика, укоренившаяся еще со времен секретарей ЦК и райкомов — откуда бы ни был лидер, он перевозит с собой всех "своих". А ведь кадровый обмен между Арменией и Карабахом очень важен.
— Мы научились быть по-настоящему свободными?
— То, что происходит сегодня, — это развязность, беспредел, а свобода — это наивысшая ступень самоконтроля. В Союзе, в эпоху режимов, он происходит под давлением. Пишутся каноны, в том числе и Уголовный кодекс, и в рамках нормы тебя держит страх наказания. А в здоровом обществе этот свод законов должен быть в тебе. Как божья кара в религии — ее же не силовики осуществляют. Тебе внушают, чтобы ты вел себя прилично, потому что где-то есть высший судия. На Высшего Судию наплевали 90 лет назад, а теперь — на законы тоже. И осталось: делай, что хочешь.
— Ну Высшего Судию-то сегодня чтят повсеместно. У каждого олигарха своя церковь…
— Это тоже из категории стартовых вывихов. Ведь была страна атеистов. Может быть, кто-то через творчество, через культуру приближался к Богу, но не к христианству вообще. И вдруг в одночасье все заделались верующими. Ну как мне в это поверить? Это же не партии, в которые можно войти из меркантильных соображений, как поступают многие, не видя между ними особой разницы. Но с верой-то как так произошло? Да нет в нас настоящей веры! Отсюда начинается компрометация Церкви, шельмование религии. У нас сегодня есть здоровые идеи, но нет самого главного — их носителей. Реально нет. А без того, кто в идею по-настоящему верит и готов ее проводить в жизнь, самая светлая мысль ничего не стоит. Все говорят: национальная объединяющая идея. Но даже тот, кто ее провозглашает, не является ее истинным носителем, поскольку волей или неволей и он подвержен синдрому общественного кризиса.
— И в чем вы видите выход?
— Я убежден, что одним из главных спасательных кругов из того, в чем мы оказались, будет культура. Хотя культура, которая должна была способствовать изменениям к лучшему, сама нуждается в лечении. Я на всю жизнь запомнил фразу, услышанную от женщины в советской очереди. Она говорила: "Раньше, чтобы мясо не сгнило, его просаливали. Теперь сгнила соль". Вот так и с нашей культурой. Тех, кто мог ее поднимать, отлучили от стола возможностей, а ведь, если речь об искусстве, все это требует финансового базиса. Кто сегодня снимает фильмы, ставит спектакли, издает книги? Ты их прежде знала? Где они были? Общественное телевидение экранизирует национальную классику, как пирожки печет, тогда как в свое время огромный "Арменфильм" не мог себе этого позволить. А эти — без проблем. "Убитая голубка" — пожалуйста, "Дневник крестокрада" — нет вопроса. Сейчас, кажется, взялись за Абовяна. И никто не интересуется — может, есть люди, которые Абовяном занимались? Ко мне приходили по этому вопросу — полное незнание и беспомощность! А ведь финансирование получат.
— А может, с обретением независимости мы обрели и истинное свое лицо? И оно такое, какое есть?
— Мне недавно один очень высокий госмуж жаловался: "Я думал, наш народ инициативный и деловой, а оказывается, он только и умеет, что прислуживать другим". А что делать крестьянину, которому дали землю и не создали никаких возможностей на ней работать? И он свою землю бросает и идет батрачить на олигарха, который купил по соседству тысячи гектаров. И начинает портиться — как человек, как крестьянин, как гражданин страны. Человек не находит своего места, не видит перспективы самореализации, а это самое страшное… Наша история повторяется. Что сделал Аршак Второй? Пытался строить социализм, опираясь на воров и разбойников, а когда они распоясались, вызвав возмущение князей, Аршак стал притеснять князей, не просто притеснять — физически уничтожать. Повторюсь, вопрос в методах реализации идеи, а человек в нормальных условиях всегда готов меняться. Ведь такие преобразования уже были. В конце концов, после войны Ереван ведь не был по большому счету городом. Я имею в виду не только здания, но человеческие лица. А вспомните Ереван конца 70-х — начала 80-х. Ведь, в конце концов, совершенно не обязательно, чтобы людей, готовящих перемены и реформы, было три миллиона. Может быть, хватило бы и сотни, но их нет, вернее, они наверняка есть, только никак не объединены. Достаточно преданной работы 1000 человек, чтобы все изменилось.