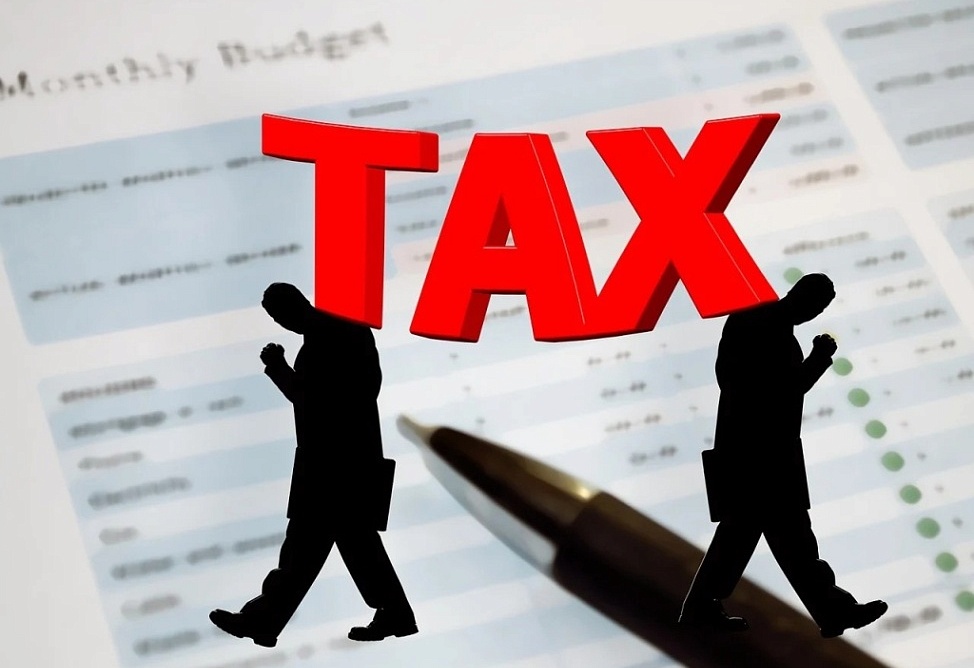— Вазген Мехакович, российские власти уже объявили первые меры по запрету импорта турецких товаров. Известно, что запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции коснется овощей и фруктов. При этом Министерство сельского хозяйства РА поспешило заявить, что Армения может занять место Турции на российском рынке сельхозпродукции. Что мы в реальности можем предпринять, чтобы подобное амбициозное заявление хотя бы в определенной степени было реализовано? Ведь трудно не вспомнить аналогичные заявления, последовавшие вслед за введением санкций против России со стороны ЕС…
— Если мы хотим сделать реальные шаги для того, чтобы поставлять больше сельхозпродукции (овощей и фруктов) в Россию, то нужно расширять сеть тепличных хозяйств — это путь, который позволит трансформировать благие намерения в конкретные дела. На сегодняшний день в Армении строительство тепличных комплексов является приоритетным направлением — пять подобных комплексов уже действуют. Но этого недостаточно — нужно, повторюсь, расширить сеть. Помнится, правительство анонсировало программу строительства крупного тепличного комплекса близ Ереванской ТЭЦ. Ну и где же он? Под это направление необходимо привлечь инвесторов, предложив им выгодные условия, налоговые льготы, преференции. Основной упор должен быть сделан на частно-государственное сотрудничество — таким образом можно привлечь больше инвестиций — как иностранных, так и отечественных.
Наши граждане сегодня держат в банках в виде вкладов более 1 триллиона драмов. Часть этих денег можно превратить в инвестиции, предложив физическим лицам более выгодные банковские проценты. Допустим, банк выплачивает вкладчикам 13% годовых. Государство может предложить на 3-4% больше. И тогда люди будут знать, что, вложив свои деньги в реальный сектор, в производство, они, во-первых, получат большие проценты, а во-вторых, будут способствовать развитию конкретных производств. В итоге увеличится ВВП, вырастут доходы населения, зарплаты, пенсии. Это один из ответов на ваш вопрос, где достать деньги. Другой вариант — государственные кредиты, которые можно направить на реализацию конкретной программы — в данном случае на строительство и развитие тепличных комплексов. МВФ или Всемирный банк на такие проекты денег, скорее всего, не дадут. Но вполне реально взять кредиты из Китая, России. Самое время взять, например, из России кредит и покрывать его продукцией, выращенной в теплицах.
— Сколько сельхозпродукции мы можем поставлять в Россию?
— Если количество действующих тепличных комплексов довести, скажем, до нескольких десятков, мы можем поставлять в Россию сельхозпродукцию, преимущественно овощи, круглогодично. Речь идет о 130-150 тыс. тонн овощей в год. И это только та цифра, которую можно получить, используя потенциал исключительно тепличных комплексов. Я считаю, что Минсельхоз обязательно должен разработать соответствующую комплексную программу.
Другой важный фактор — необходимость восстановления потребительской кооперации. В советское время существовал «Айкоп» — как посредник между государством и частником, он крайне нужен и сегодня. Давайте вспомним, какие очереди в этом году были на прием винограда. А ведь их можно было избежать. В этом году мы вывезли в Россию всего 10 тыс. тонн винограда, хотя это цифра могла быть в 10 раз больше, учитывая небывало богатый урожай. Более 300 тыс. тонн получили, и всего 10 тыс. тонн отправили в Россию. Понятно, что основная часть урожая пошла на производство коньяка и вин, но все равно экспорт в Россию мог бы быть намного больше.
Проблема — в отсутствии структуры, которая взяла бы на себя закупку, хранение и транспортировку. У нас есть частные компании, которые занимаются вывозом, но они работали бы более эффективно в тандеме с организациями потребительской кооперации и государством в рамках частно-государственного сотрудничества. Всем этим надо незамедлительно заниматься сегодня, если мы действительно хотим круглый год поставлять на российский рынок сельхозпродукты. Что касается фруктов, то опять же благодаря частно-государственному сотрудничеству вполне реально организовать производство сухофруктов, которые стоят дороже, нежели свежие фрукты, и будут обязательно востребованы на российском рынке. Сегодня есть маленькие предприятия, специализирующиеся на производстве сухофруктов — речь идет о том, чтобы вывести данное направление на серьезный агропромышленный уровень.
— Нужно ли укрупнять крестьянские хозяйства?
— Обязательно. Мы получаем множество предложений на предмет создания и развития парка машинно-тракторных станций. Подобные станции действовали в советское время и отлично себя зарекомендовали. На данный момент мы получили предложение из десятка сел Талинского района — они хотят иметь машинно-тракторную станцию, чтобы сообща обрабатывать земли, и обратились к нам с просьбой помочь в деле приобретения сельхозтехники — тракторов, комбайнов и т.д. Очень важно, чтобы фермеры имели возможность объединить свои усилия, свои земли, чтобы их было легче обрабатывать. В республике 440 тысяч га земли, из коих 150 тысяч га не обрабатываются, причем 70% необрабатываемой земли — орошаемые. Рук не хватает — вот в чем дело. Из кого сегодня состоит так называемое крестьянское хозяйство? Зачастую это пожилые муж да жена — вот и все хозяйство. Надо укрупняться, объединяться, сохраняя при этом право человека на собственность — иного пути нет. И государство, по моему убеждению, должно участвовать в деле приобретения сельхозтехники для объединяющихся крестьянских хозяйств.
— В недавнем обращении к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости изымать у недобросовестных владельцев земли, которые используются не по назначению, и продавать их тем, кто будет их использовать должным образом. Как я понимаю, аналогичная проблема «недобросовестных владельцев» и в Армении актуальна… Но пойдет ли правительство на применение столь же жесткого кнута?
— Действительно, в Армении положение такое же. Есть так называемые латифундисты, купившие землю, но не пользующиеся ею. Нужно провести инвентаризацию с тем, чтобы иметь ясную картину — кто сколько земли приобрел и при этом неэффективно ее использует. Я считаю, в этом вопросе и наша власть должна проявить жесткость. Но у нас ситуация имеет свои особенности — как я уже сказал, 150 тысяч га земли в республике вообще не обрабатываются.
— У этих 150 тысяч га есть собственники?
— Часть этих земель, конечно, находится в собственности или арендуется вышеупомянутыми латифундистами. И с этим следует разбираться досконально. Повторюсь: дабы мы могли обрабатывать наши земли, нужны большие кооперативы с участием государства. И нужны потребительские союзы — чтобы складывать и реализовывать готовую продукцию. В свое время мы все колхозы и совхозы расформировали и всех объявили частниками. Ну так что из того? В Армении — 339 тыс. крестьянских хозяйств. Это частники, именуемые фермерами. Звучит гордо, выглядит печально. Два пожилых супруга, дети живут за пределами Армении — такие вот они фермеры. Возвращаясь к началу, скажу, что, конечно, предпринимая комплексные меры, мы сможем поставлять больше сельхозпродукции в Россию, хотя в любом случае речь идет о насыщении очень маленького сегмента огромного российского рынка. Однако и это кое-что. Армения и не должна основной упор делать на сельское хозяйство. И так 20% ВВП — доля сельского хозяйства. Это больше, чем доля промышленности. Последующее увеличение ВВП должно происходить преимущественно за счет промышленности. Тогда и уровень жизни поднимется в разы, и зарплаты и пенсии будут адекватными.
— Вы неоднократно говорили о том, что следует развивать Зангезурский медно-молибденовый комбинат, включая строительство медеплавильного завода, задействовать «Наирит», Ванадзорский химкомбинат и т.д. Но успехов-то нет, одна только туманная перспектива…
— Почему же перспектива? Ванадзорский химкобинат может хоть завтра начать работать!
— Но не работает же…
— Не работает, потому что опять же собственники оказались нерадивые. Стало быть, надо этих собственников пригласить и спросить о причине такого положения дел. Они, конечно, скажут — того нет, этого нет. Но тогда пусть продают свои акции, а государство их приобретет. Мы можем производить 40 тыс. тонн аммиака, карбамид, покрыть всю потребность республики в селитре. А мы ту же селитру ввозим из Грузии. Зачем, когда можно здесь производить? Государство должно взять реальный курс на развитие внутренней кооперации. Тогда мы будем знать, какой завод в Армении что может и готов производить — с тем чтобы покрывать наши внутренние потребности и без нужды не вывозить деньги за рубеж.
За 15 лет мы приобрели чужих товаров на $41 млрд. Стоит вдуматься в эту цифру. Нефть, газ, которые Армения вынуждена закупать, — это понятно. Но есть же продукция, которую мы в состоянии производить сами. За те же 15 лет мы вывезли из Армении товаров на $14 млрд. Отрицательный баланс — $27 млрд. Даже если бы половину этих денег оставили в Армении, вложив в промышленность, выгода была бы огромной. Что касается «Наирита», то он может работать. Опять же проблема в нерадивости тех, кто принимает решения. Сколько было неэффективных хозяев у «Наирита»?! Зачем продавать «Наирит» кому-то, а потом уповать на его милость? Опыт показывает, что не надо уповать на частников.
Государство должно само принять участие и пригласить частников, с тем чтобы обеспечить частно-государственное сотрудничество. Наше правительство уже приняло подобный метод как действенный. Так пусть начнет применять механизм частно-государственного сотрудничества как раз с «Наирита». Если государство вложит средства, тогда и частники подключатся. А когда частнику говорят: иди, делай что хочешь, и он видит, что государство ни в чем его не поддерживает, вряд ли выйдет что-то путное. Мы можем приглядеться к опыту Англии, например, где государство, видя, что какое-то предприятие идет на банкротство, приобретает его акции, делает необходимые внедрения, поднимает предприятие, и только потом продает свои акции. У нас аналогичных примеров я не вижу. А следовало бы…