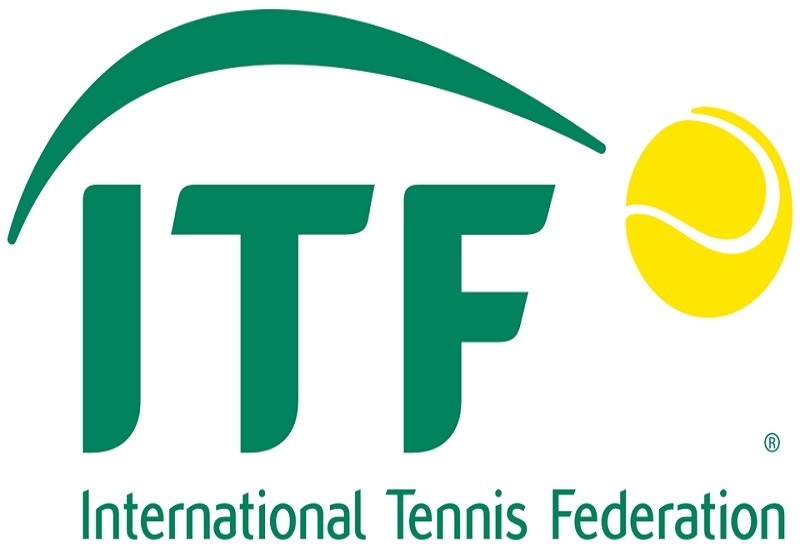Эхо резонирующей души
Ни один древний текст не дошел до нас в таком огромном количестве рукописей, как Новый Завет. В этом смысле он далеко оставил позади Ветхий Завет. Причем речь идет об очень древних рукописях, практически почти со времени написания самого Евангелия, то есть с конца I века нашей эры. Никакой другой документ древности не переписывался так часто и не пользовался таким признанием. По сравнению с Новым Заветом "Илиада" Гомера — лишь следующий по количеству списков текст. Вот перечень самых ранних рукописей Евангелия: греческих — 5309, славянских — 4101, армянских — 2587, эфиопских — 2000, сирийских — 350, арабских — 75, готтских — 6, согдийских — 3, персидских — 2. И это еще не считая цитат из великой книги: по числу цитирований с Новым Заветом ничего не может сравниться.
ТО, ЧТО ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕХ, — ПОНЯТНО: греческий в первые века нашей эры был языком международного общения. Далее идут славянские рукописи, так ведь речь обо всех славянских народах, коих было много (в основном южнославянских). А вот армяне — это один небольшой народ, и тем, что армянские древние рукописные книги идут в этом списке третьими по количеству, можно гордиться. Кстати, армянские переписчики и переводчики прекрасно знали, конечно, греческий язык и могли сразу писать на греческом, но писали на армянском, то есть переводили для своего народа. Молодцы.
Все самые древние рукописи Евангелия переводились на упомянутые языки уже через век-два-три после появления Нового Завета. Это очень рано, и это о многом говорит. Для сравнения: семь пьес Софокла были переписаны только через 1400 лет после смерти драматурга.
Вот что значит великая цельность книги, святое благоговение перед божественными словами. Кто-то правильно сказал, что все нападки за две тысячи лет производили на живучесть Евангелия не больше эффекта, чем удары сапожного молотка на египетскую пирамиду.
И вот что еще поразительно: в переводах очень мало ошибок и невольных искажений. Что способствовало такому прилежанию переводчиков? То, что затронуто было их сердце. Это не одно только холодное мастерство. Поразительный исторический рассказ вызывал у них сострадание. А всякий переписчик был человеком с живым воображением. Вот это и способствовало глубокому влиянию их рукописей на множество людей. Эхо резонирующей души — долгое эхо…
 О том, что такое раннее и обильное переписывание и перевод благотворны, говорит следующий пример. Александр Македонский сжег Персеполь и Авесту (великие люди иногда причиняют великие беды), отчего Авеста дошла до нас лишь фрагментарно, осколочно. Значит, переписано было ограниченное количество экземпляров, да вдобавок к этому почти все они хранились в одном месте. Правда, те времена были более древние (персы древнее греков), но все равно рвение более поздних переписчиков было сильнее. И дивные арийские гимны Зардушта сгорели почти дотла. И ведь кто жег: тоже ариец! В своем походном драгоценном ларце Александр всюду возил с собой "Илиаду" (сказался учитель Аристотель), а чужую "Илиаду" не пощадил. А вот персы списки "Илиады" не тронули. Персы вообще никогда ничего священного не трогали, терпимо и мудро относясь к миросозерцанию чужих народов. Вот что писал в XVIII веке армянин Артемий Араратский: "Персияне при всех грабительствах своих никогда не касались мест священных и уважали храмы". Вспомним и слова древнеегипетского жреца, сказанные Солону: "Вы, эллины, — дети…". К чести Солона, который сам был эллином, он это записал и тем самым донес до мира.
О том, что такое раннее и обильное переписывание и перевод благотворны, говорит следующий пример. Александр Македонский сжег Персеполь и Авесту (великие люди иногда причиняют великие беды), отчего Авеста дошла до нас лишь фрагментарно, осколочно. Значит, переписано было ограниченное количество экземпляров, да вдобавок к этому почти все они хранились в одном месте. Правда, те времена были более древние (персы древнее греков), но все равно рвение более поздних переписчиков было сильнее. И дивные арийские гимны Зардушта сгорели почти дотла. И ведь кто жег: тоже ариец! В своем походном драгоценном ларце Александр всюду возил с собой "Илиаду" (сказался учитель Аристотель), а чужую "Илиаду" не пощадил. А вот персы списки "Илиады" не тронули. Персы вообще никогда ничего священного не трогали, терпимо и мудро относясь к миросозерцанию чужих народов. Вот что писал в XVIII веке армянин Артемий Араратский: "Персияне при всех грабительствах своих никогда не касались мест священных и уважали храмы". Вспомним и слова древнеегипетского жреца, сказанные Солону: "Вы, эллины, — дети…". К чести Солона, который сам был эллином, он это записал и тем самым донес до мира.
"Слово слушается его, как змея заклинателя"
Пока тут гуляло лето во всей красе и мы были в отпусках, набежало несколько памятных дат — 150-летие со дня рождения и одновременно 100-летие со дня гибели Петра Аркадьевича Столыпина, 110-летие со дня рождения Нины Берберовой, 170-летие со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. И ведь что интересно: некоторые из этих памятных дат связаны между собой. Так, Столыпин был троюродным братом Лермонтова (Лермонтов по бабушке Столыпин), а также Петр Аркадьевич приходился дальним родственником Льву Толстому, 100-летие со дня смерти которого исполнилось в прошлом году.
 РОД СТОЛЫПИНЫХ, КОНЕЧНО, НЕСЛЫХАННО ОБОГАТИЛ РОССИЮ. Еще бы — две такие грандиозные вершины в роду за одно столетие. Такому роду надо кричать "браво!" и ставить памятники. И ставят. Теперь вот Петру Аркадьевичу. Давно пора. Великий род, над которым, увы, нависал злой рок, ведь и Лермонтов, и Столыпин были убиты ("Я знал: удар судьбы меня не обойдет"). Но бессмертия рок уничтожить не мог. Прозу Лермонтова Гоголь называл "благоуханной". "В его стихах рассыпаны алмазы" (Глеб Горбовский). "Слово слушается его, как змея заклинателя", — поражалась Анна Ахматова. "Таких стихов еще долго не дождаться России", — писал Виссарион Белинский. Между прочим, до сих пор не дождались.
РОД СТОЛЫПИНЫХ, КОНЕЧНО, НЕСЛЫХАННО ОБОГАТИЛ РОССИЮ. Еще бы — две такие грандиозные вершины в роду за одно столетие. Такому роду надо кричать "браво!" и ставить памятники. И ставят. Теперь вот Петру Аркадьевичу. Давно пора. Великий род, над которым, увы, нависал злой рок, ведь и Лермонтов, и Столыпин были убиты ("Я знал: удар судьбы меня не обойдет"). Но бессмертия рок уничтожить не мог. Прозу Лермонтова Гоголь называл "благоуханной". "В его стихах рассыпаны алмазы" (Глеб Горбовский). "Слово слушается его, как змея заклинателя", — поражалась Анна Ахматова. "Таких стихов еще долго не дождаться России", — писал Виссарион Белинский. Между прочим, до сих пор не дождались.
Но, что самое удивительное, во время юбилея вскрылись и кое-какие новые данные о Лермонтове. Вот, скажем, следующее. Бабушка поэта обратилась к Государю Императору с просьбой разрешить перевезти тело горячо любимого Мишеньки в Тарханы. И в 1842 году получила это разрешение. Снарядили обоз и двинулись в Пятигорск. В обозе находились дядька поэта Андрей Соколов, на попечении которого Лермонтов был с двухлетнего возраста, камердинер поэта Иван Соколов, неотлучно находившийся при нем на протяжении всей его жизни, и конюх Иван Вертюков, находившийся вместе с Лермонтовым в последний приезд в Пятигорск. Через месяц прибыли на пятигорское кладбище.
"Марта 22 дня 1842 года вынули гроб из земли, открыли крышку, взглянули на Михаила Юрьевича: лежит он целехонький, только потемнел как-то. Закрыли крышку, поставили гроб в железный свинцовый ящик, запаяли". В присутствии друзей и знакомых был совершен молебен. Съездили на место дуэли и отправились в обратный путь. "Мишенька здесь?" — спросила бабушка в Тарханах, подойдя к свинцовому запаянному гробу и положив на него руку.
Вот так.
15 июля 1841 году в Пятигорске был убит Лермонтов. 15 июля 1904 года в Баденвейлере (тоже курортный городок) умер Чехов. "Бывают странные сближенья"…