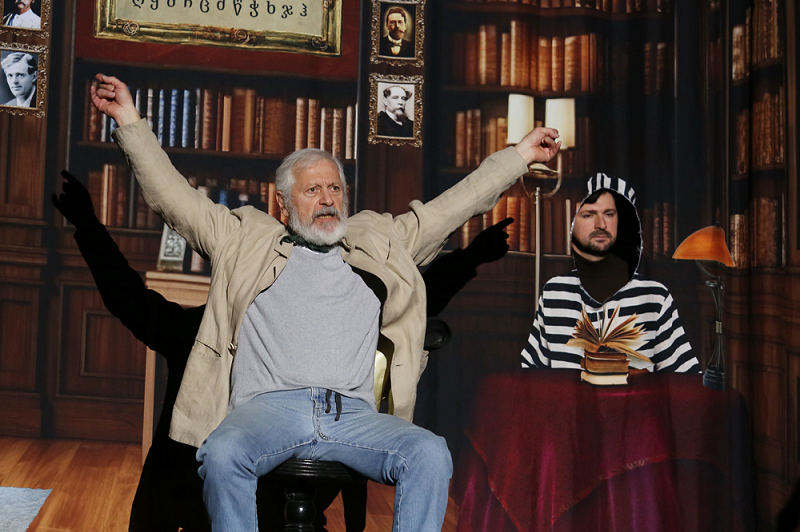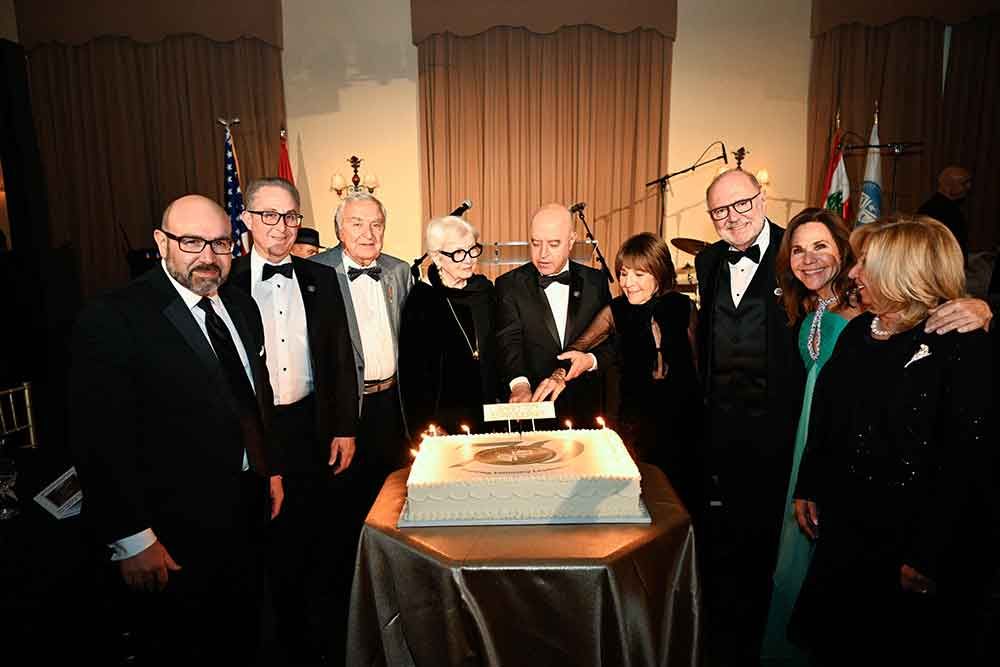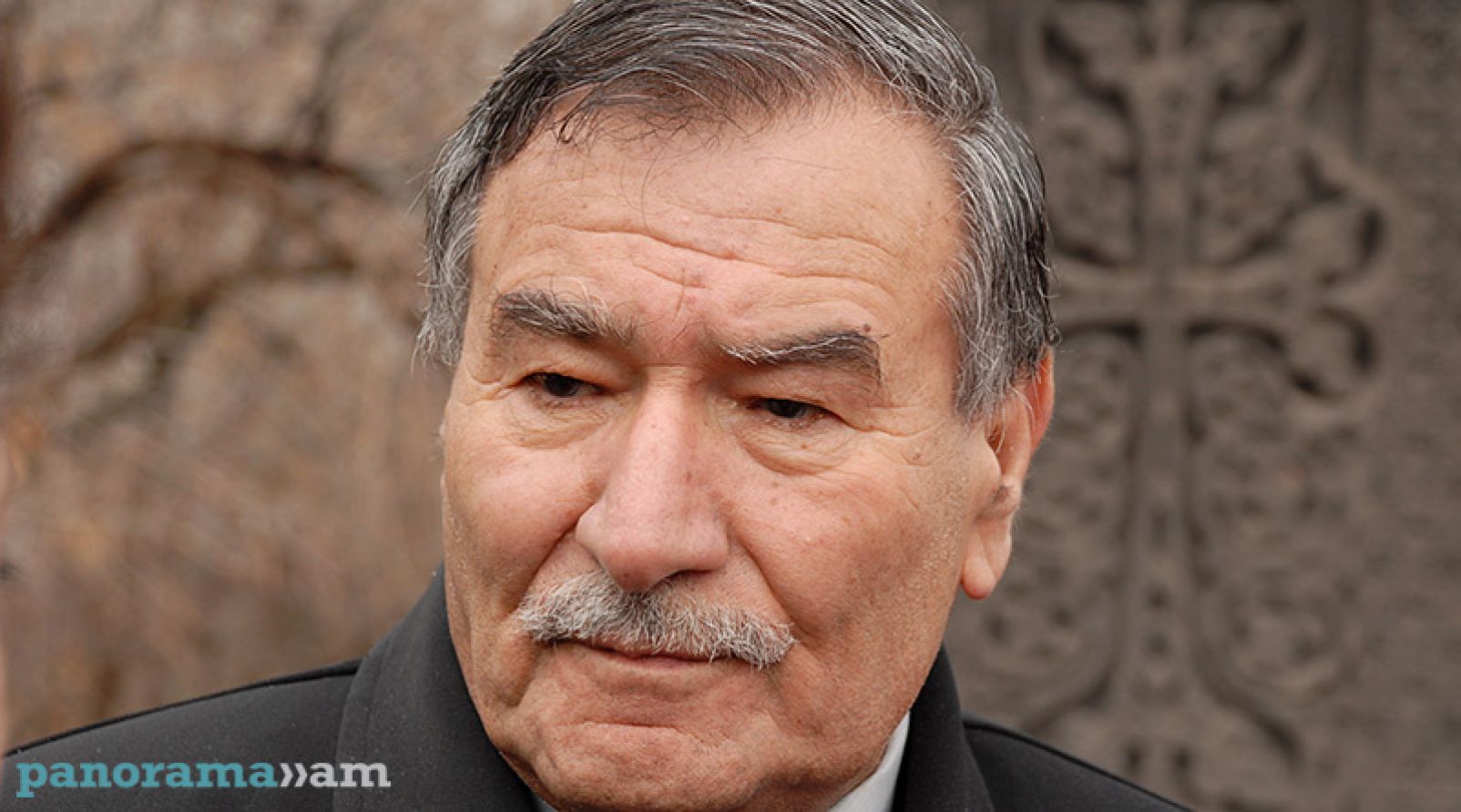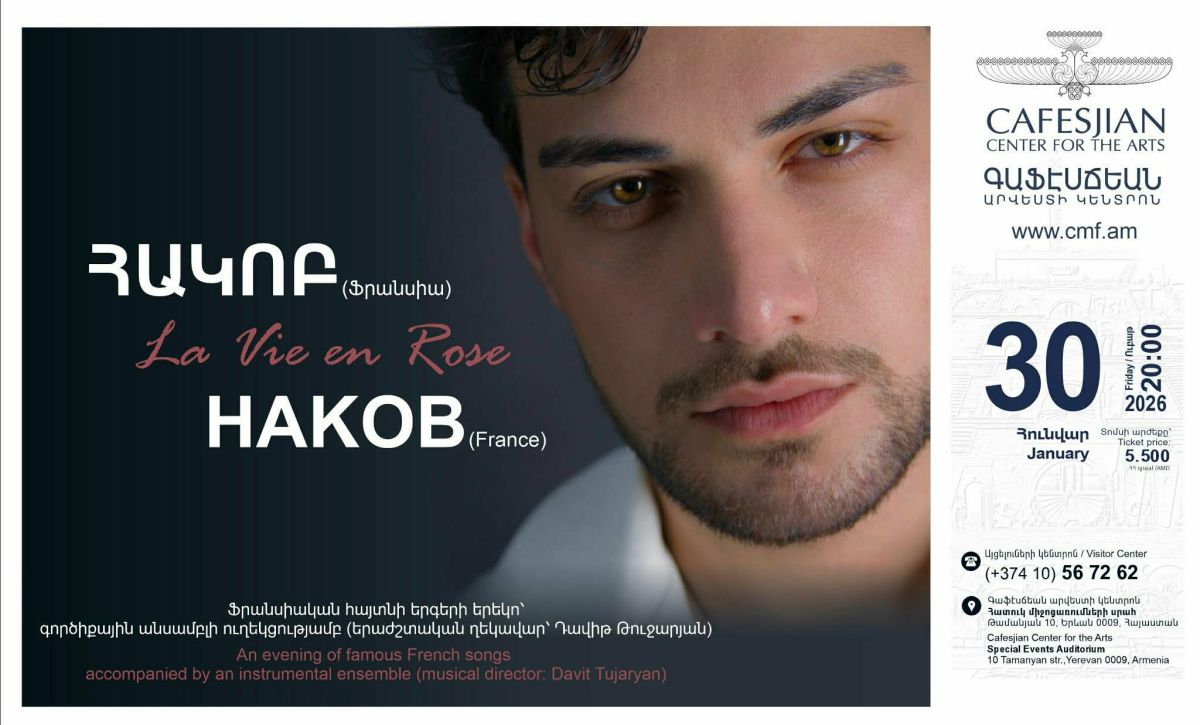Из долгих бесед в мои
молодые годы с переводчиком Владимиром Владимировичем Роговым в московском Доме
литераторов я могла бы выделить сегодня его меткие мысли о Мартиросе Сарьяне.
РОГОВ СЧИТАЛ, ЧТО САРЬЯН
ВЕРНУЛ В МИР ТО ОЩУЩЕНИЕ ВЫДЕЛЕННОСТИ,
единичности вещи, которое было свойственно только Гомеру,
неповторимой единственности простых реалий, окружающих нас, будь то ослик, одинокое
дерево на горном склоне, цветок, тыква, маска и т.д. Помню, рассказывал Рогов,
как Сарьян, потчуя нас у себя дома, восхищенно указал на стол: «Ешьте, это
аштаракский мед». Как бы подчеркивая, что это не вообще мед, а дар именно
предгорья. Или в Москве подвел меня к окну, вспоминал Владимир Владимирович, и
показал привезенную из Еревана луковицу — одну-единственную обыкновенную
луковицу, которая мгновенно перестала быть обыкновенной, — я вдруг увидел ее
переливающиеся фиолетово-коричневые одеяния, сверкающие на солнце, как
драгоценность. Темные, иссиня-черные одеяния этой армянской луковицы, ее пигмент
были отзвуком горного ультрафиолета.
Вот, пожалуйста, одно только слово Мартироса Сергеевича,
тонко направляющего ваш взгляд на вещь, еще минуту назад казавшуюся вам
обыденной, рутинной, не говоря уже о том, что малозначительной…
Кстати, куда они подевались, эти иссиня-черные
великолепные армянские луковицы?..

Ауканья
Все читали
блистательный «Театральный роман» Михаила Булгакова. А ведь был еще
«Театральный роман» Гете. А сам Гете в своем «Вильгельме
Мейстере» даже не пытался скрыть ассоциацию таких глав, как «Годы
учения», «Годы странствия» с триадой жизненных циклов у Саади
(годы учения, годы странствий и годы поздней литературной обработки усвоенного
за жизнь). Искусство полно ауканий. Не стилизаций, а глубоких отзвуков.
ВСЕ ПОМНЯТ
ЗНАМЕНИТЫЕ СЛОВА ЖУКОВСКОГО О ПУШКИНЕ:
«Победителю-ученику от побежденного
учителя». А теперь сравните это со стихотворением Саят-Новы:
Когда мне было десять лет,
я еще беспечно проводил время.
Когда исполнилось одиннадцать,
я еще не совсем поумнел.
В двенадцать лет меня отдали мастеру,
в тринадцать я преуспел в своем ремесле.
В четырнадцать благодаря мне
мастер получил награду.
(подстрочный
перевод)
Кто помнит, как отрок Леонардо пририсовал ангела к
картине своего учителя Верроккьо, тот поймет, о чем здесь идет речь. Благодаря
этому ангелу (автопортрет самого Леонардо) картина стала шедевром.
«Бывают
странные сближения…»
Детство и юность
Федор Иванович Тютчев провел в доме своих родителей в Армянском переулке
Москвы, а из окон его квартиры в Санкт-Петербурге, где он жил уже в поздние
свои годы, была видна Армянская церковь.
В МОСКВЕ ЭТО
СЕЙЧАС ДОМ ПО АДРЕСУ: АРМЯНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 11.
В 1810-1830 годах в доме жила
семья Тютчевых. Здесь 18-летний поэт окончил Московский университет и отсюда
уехал на 22 года на дипломатическую службу в Баварию.
«Далеко не сразу осознал он свои добрые чувства к
родине и любовь к этой неухоженной северной стране. Но в один из приездов из
Германии в Россию Федор Иванович добрался до московского дома своих родителей в
Армянском переулке, вошел во двор и понял, что ему недостанет сил из-за избытка
чувств дойти до крыльца. Так и сел среди двора. И, может быть, именно в этот
момент в его душе что-то щелкнуло, как бывает при исправлении вывиха, и встало
на свое место. Некоторым людям для того, чтобы откровенно и навсегда полюбить
отечество, требуется долго пожить на чужбине. Таков был Тютчев». (Татьяна
Корсакова).

Федор Абрамов в
Гарни
В конце 60-х годов
XX века группа московских писателей приехала в Армению на какое-то очередное
крупное мероприятие. Как водится, отправились в Гарни и Гегард. В автобусе я
оказалась рядом с известным прозаиком Федором Абрамовым.
ОН ВНИКАЛ ВО ВСЕ
РЕАЛИИ АРМЕНИИ КАК-ТО ОСОБЕННО ОСТРО.
Вот это настоящий писатель, подумала я, ведь что писатель
без наблюдательности. Храм в Гарни он обежал несколько раз. «Две тысячи
лет! Подумать только! И это на нашей советской земле!» — в восторге
повторял он. И вдруг взгляд его упал на выложенную базальтовыми плитками
площадку перед храмом. «Как, и этому две тысячи лет?» — спросил он
меня. «Нет, — улыбаясь, ответила я, — это новодел, просто достойно
прибрали окружение древнего храма». «Молодцы армяне, — опять
восхитился Федор Абрамов. — И дорога сюда, в Гарни, какая хорошая. Вот бы нам в
России озаботиться этим. А уж эта опрятная и такая стильная площадка перед
храмом в тонах самого храма! Молодцы армяне, — опять повторил он. — Вы уж
простите, что я сую свой писательский нос во все».
Так это же замечательно, подумала я. Приметливость — знак
настоящего писателя. А ведь многие из приехавших не задавали вопросов, их
интересовал лишь банкет. Но не таков был Федор Абрамов, к сожалению, проживший
недолгую жизнь. Его живые, пытливые глаза я до сих пор помню. Он умел смотреть,
а главное, видеть.
Сколько раз с тех пор я бывала в Гарни! И всякий раз
вспоминала слова Федора Абрамова о стильной площадке перед храмом в тонах
самого храма. Неповторимая писательская школа.
А «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий» о судьбах
Армении в моих ушах звучит спасительное абрамовское «молодцы армяне!»
Значит, не все еще потеряно.