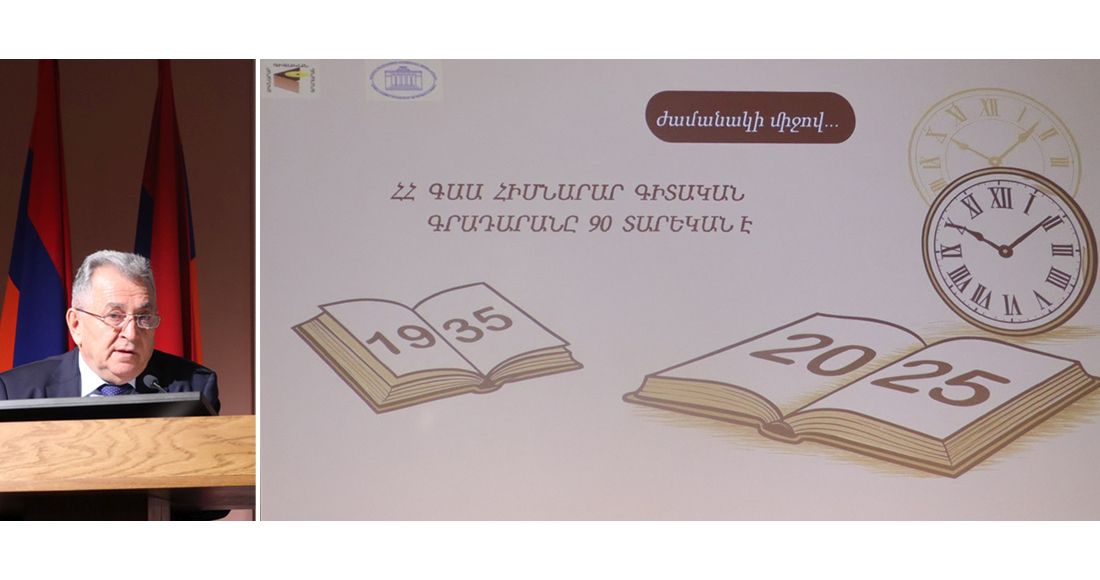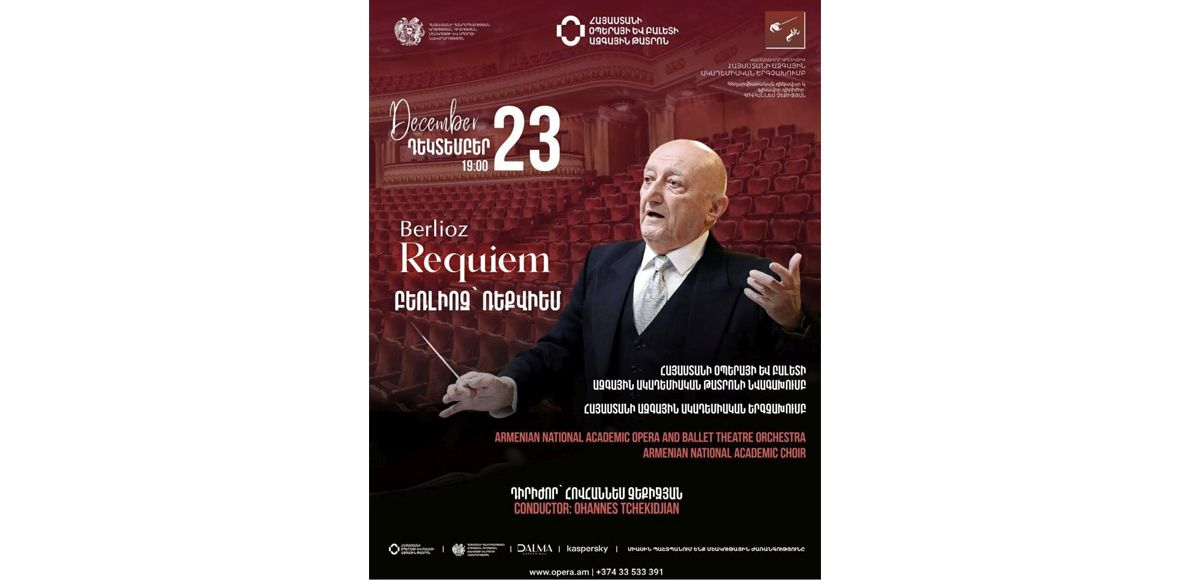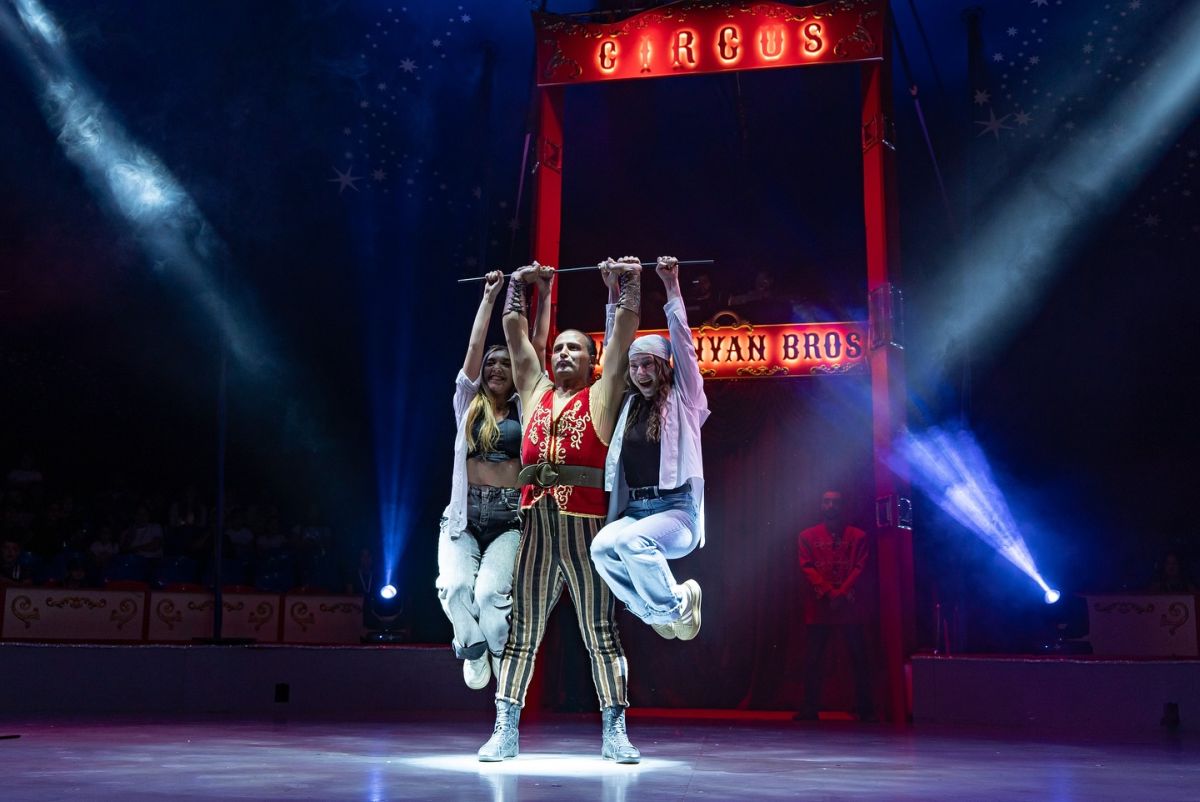C 30 августа по 9 сентября в Италии пройдет юбилейный 80 Венецианский кинофестиваль. Организаторы объявили фильмы, которые вошли в секцию «Венецианская классика». Cреди них «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Самая красивая» Лукино Висконти, «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, «Создания» Аньес Варда и другие. Всего 20 картин.
На киносмотре проведут мероприятия, посвященные культовой итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде, ушедшей из жизни в минувшем январе и французской актрисе и певице Джейн Биркин. Публике покажут две ленты с их участием — «Собор Парижской Богоматери» и «Бассейн».
 ШЕДЕВР ПАРАДЖАНОВА «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» НЕ ТОЛЬКО ПРОСЛАВИЛ МАСТЕРА, но и стал последним в его украинском цикле. Долгое время было принято считать, что именно после этой картины начались злоключения Параджанова – арест и четыре тяжелых года в тюрьме. «Если бы планете Земля было предложено послать одно-единственное кинопроизведение в другую цивилизацию, то я предложил бы картину «Тени забытых предков», – говорил французский актер и режиссер Робер Оссейн.
ШЕДЕВР ПАРАДЖАНОВА «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» НЕ ТОЛЬКО ПРОСЛАВИЛ МАСТЕРА, но и стал последним в его украинском цикле. Долгое время было принято считать, что именно после этой картины начались злоключения Параджанова – арест и четыре тяжелых года в тюрьме. «Если бы планете Земля было предложено послать одно-единственное кинопроизведение в другую цивилизацию, то я предложил бы картину «Тени забытых предков», – говорил французский актер и режиссер Робер Оссейн.
«Тени» вышли на экраны в 1965 году. Картина произвела сенсацию, о Параджанове заговорили. Это фильм не просто о любви. Это фильм о любви и смерти. И старая вражда двух родов, память о пролитой крови предков встает между Иваном и Маричкой. И даже без ярких многословных диалогов эта пронзительная история не может не захватывать.
«Фильм был напоен дыханием, звуками природы. И человек был неотъемлемой частью ее. Все было слито воедино – чарующие звуки удивительного гуцульского говора, стон падающего дерева, запах травы и грибов. Это — поэма», – говорил о картине гениальный Федерико Феллини.
В беседе с корр. «ГА» киновед, заслуженный деятель искусств России Кора Церетели отметила, что феномен Сергея Параджанова и его многогранного полифонического искусства, любое соприкосновение с которым — будь то фильмы, коллажи, ассамбляжи или не менее непривычная проза сценариев — вызывает ощущение магического. Возникая из глубины веков, начинает звучать насыщенный первозданной энергией слог наших предков. Все разумное, системное в параджановском мире опрокинуто его интуицией.
 «В «Тенях забытых предков» мир предстает перед нами в языческом одухотворении природы: Вода… Огонь… Ветер… Древо…,- говорит К. Церетели.- Трагическая любовь героев, переплетение судеб и страстей человеческих — часть неделимого мира, в котором мистические силы природы оказываются мудрее человека, не умеющего вовремя распознать ее предостерегающие знаки. Все его фильмы — это метафоры. Священный Орел в канун сражения отказывается клевать дымящуюся печень, вырванную из чрева жертвенного бычка — предзнаменование большой беды («Ара Прекрасный»). Персидская стрела вонзается в икону Ахтальской Богородицы («Саят-Нова»). Икона издает горестный стон, и лик Богородицы вдруг рассыпается. Нашествие ага Магометхана превращает в пустыню цветущий край. Образы-вспышки, пронзительные и сильные, как удары молний. «Кино — это искусство вспышек», — говорил Сережа. Эти вспышки могли созревать и рождаться только в мощном потоке абсолютно рискованного, не затуманенного стереотипами воображения. Параджанов прежде всего живописец — чем бы он не занимался, что бы ни создавал…
«В «Тенях забытых предков» мир предстает перед нами в языческом одухотворении природы: Вода… Огонь… Ветер… Древо…,- говорит К. Церетели.- Трагическая любовь героев, переплетение судеб и страстей человеческих — часть неделимого мира, в котором мистические силы природы оказываются мудрее человека, не умеющего вовремя распознать ее предостерегающие знаки. Все его фильмы — это метафоры. Священный Орел в канун сражения отказывается клевать дымящуюся печень, вырванную из чрева жертвенного бычка — предзнаменование большой беды («Ара Прекрасный»). Персидская стрела вонзается в икону Ахтальской Богородицы («Саят-Нова»). Икона издает горестный стон, и лик Богородицы вдруг рассыпается. Нашествие ага Магометхана превращает в пустыню цветущий край. Образы-вспышки, пронзительные и сильные, как удары молний. «Кино — это искусство вспышек», — говорил Сережа. Эти вспышки могли созревать и рождаться только в мощном потоке абсолютно рискованного, не затуманенного стереотипами воображения. Параджанов прежде всего живописец — чем бы он не занимался, что бы ни создавал…
ОДНАКО У ВСЯКОГО ЯВЛЕНИЯ ЕСТЬ СВОЕ НАЧАЛО, ЕСТЬ СВОЙ ИСТОК. В уникальности такого многогранного феномена, как Параджанов, далеко не последнюю роль сыграли его корни. Понимать это надо и в прямом, и в расширенном смысле, ибо генотип Параджанова сложился благодаря счастливому наследованию особенностей этноса, к которому он принадлежал. Параджанов — коренной тбилисский житель. Для людей, проживающих на Кавказе, это говорит о многом. Он вырос в одном из тех старых многонациональных уголков грузинской столицы, где на стыке трех культур (грузинской, армянской, тюркской) и трех религий (православной, армяно-григорианской и мусульманской) сложился своеобразный этнический феномен. Но Cережа — армянин до мозга костей».
 По словам Коры Давидовны, к смерти Параджанов относился без страха, спокойно, но со свойственным ему любопытством и озорством. Часто говорил, что «смерть надо организовать так же, как и жизнь». И он организовывал похороны своих друзей и родственников, превращая скромный современный ритуал в красочную литургию. В Москве он был главным церемониймейстером на похоронах Лили Брик: облачил ее в старинное, украшенное многоцветной вышивкой гуцульское платье и декорировал комнату под цветочную клумбу. В Тбилиси — правил траурный бал на похоронах своего зятя Георгия, загримировав его в гробу под испанского гранда. Перед объективом фотографа Юрия Мечитова он разыграл импровизацию собственных воображаемых похорон. В последнем в своей жизни 1990 году сделал серию иронических аллегорий-коллажей на тему смерти. Роковой образ «Костлявой с косой» был демистифицирован и заземлен забавными бытовыми деталями. Как видно, в укромном уголке непредсказуемой параджановской души уже поселилось предчувствие скорой смерти, и он бросал ей вызов.
По словам Коры Давидовны, к смерти Параджанов относился без страха, спокойно, но со свойственным ему любопытством и озорством. Часто говорил, что «смерть надо организовать так же, как и жизнь». И он организовывал похороны своих друзей и родственников, превращая скромный современный ритуал в красочную литургию. В Москве он был главным церемониймейстером на похоронах Лили Брик: облачил ее в старинное, украшенное многоцветной вышивкой гуцульское платье и декорировал комнату под цветочную клумбу. В Тбилиси — правил траурный бал на похоронах своего зятя Георгия, загримировав его в гробу под испанского гранда. Перед объективом фотографа Юрия Мечитова он разыграл импровизацию собственных воображаемых похорон. В последнем в своей жизни 1990 году сделал серию иронических аллегорий-коллажей на тему смерти. Роковой образ «Костлявой с косой» был демистифицирован и заземлен забавными бытовыми деталями. Как видно, в укромном уголке непредсказуемой параджановской души уже поселилось предчувствие скорой смерти, и он бросал ей вызов.
«Тени забытых предков» получили 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях (из них — 24 Гран-при) в 21 стране и вошли в Книгу рекордов Гиннеса. Но ни одну из этих наград Параджанов не смог принять лично.