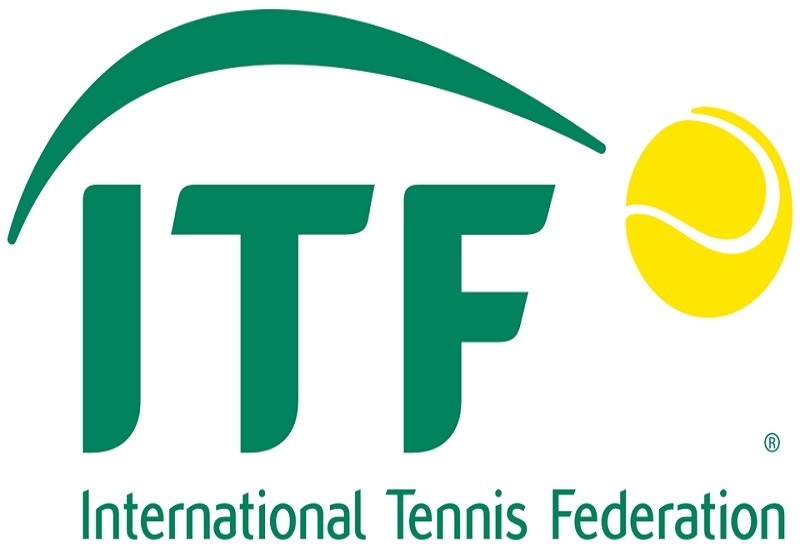— Спартион Егоевич, почему писателю анийский хлеб показался сладким? Ведь в условиях Армении производство продовольственного зерна сопряжено с тяжким трудом — не так ли?
— Юрий Грибов был мудрым человеком. Он замечал все: как мы старательно, до последнего зернышка, убирали поле, как женщины пекли в тонире лепешки и лаваш. Для него главным было отношение человека к делу. Он понимал, что получать 45-50 центнеров зерна с богарного гектара и 4 тыс. литров молока в год от местной буренки — это почти фантастика. Но когда 40 лет показатели колхоза стабильно высокие, это уже заслуга всего трудового коллектива. А хлеб сладкий потому, что он свой, отвоеванный у горной пашни.
К сожалению, после приватизации земли пашня осталась без хозяина. Это странно, но это факт. Оказывается, крестьянин в одиночку в поле не воин. Сегодня с тех самых, некогда щедрых колхозных земель собирают скудный урожай: 10-12 ц зерна, т.е. в четыре раза меньше. Я не могу мириться с таким положением дел. Считаю, что надо вернуться к коллективному труду. Надо создавать машинно-тракторные станции (МТС). Десять последних лет я без устали убеждал руководство Минсельхоза и членов правительства в необходимости возродить эту техническую структуру. Наконец лед тронулся — и появились пилотные программы. Теперь буду акцентировать внимание чиновников на необходимости собирать земли, укрупнять наделы, создавать полноценные фермерские хозяйства. Думаю, что личный пример будет более убедительным. Сейчас я занят объединением всех землепользователей села Маралик. Без крупных хозяйств дальнейшее развитие земледелия становится невозможным.
— Фермерское хозяйство «Барик» такое же доходное, как и возглавляемый вами прежде колхоз?
— Подходы, конечно, разные. В моем личном хозяйстве я могу себе позволить не гнаться за драмом, а делать то, за что другие не берутся. Как специалист, я не мог равнодушно все эти годы смотреть, как погибает племенное дело. Я взялся улучшить генофонд и спасти от вымирания полугрубошерстную овцу (тип армянский). Эта порода овец оказалась на грани исчезновения, и теперь моими усилиями выращены 500 племенных животных, и я передаю их 10 дочерним фермам для размножения.
С целью спасти желтую армянскую пчелу я создал пасеку. Активно занимаюсь семеноводством эспарцета (лучший корм для овец), зерновых культур и льна. Когда в селе заработает общественное хозяйство, я уверен, за несколько лет мы сможем достичь колхозных показателей. Напомню, что ежегодно мы продавали государству 6,5 млн штук яиц и 1 млн цыплят, ежедневно — 500 кг шампиньонов и в зимние месяцы столько же помидоров и огурцов. Хорошие доходы приносило и овцеводство: настриг шерсти от каждой из 8 тысяч овец достигал 5 кг. Многопрофильный колхоз был одним из лучших в СССР и состоял почетным членом ВДНХ, а, я председатель колхоза, — полным кавалером медалей ВДНХ. Мы много лет соревновались с эстонским колхозом «Ахия» и постоянно выходили победителями. А ведь природные условия у эстонских коллег были значительно благоприятнее… Словом, работать надо умеючи и помнить, что воз в гору тащат семеро, а с горы и один столкнет.
— В очерке есть теплые строки о вашей дружной семье. Жена, три сына и дочь по-прежнему работают плечом к плечу с вами?
— В 1996 году пал последний в республике колхоз, бессменным руководителем которого я был в течение 40 лет. И этот факт отразился на жизни семьи. Старший сын и дочь со своими семьями переехали во Францию, средний сын — в Москву. Со мной живет младший — опытный зоотехник. Он мне опора во всем. Есть надежда, что из 10 внуков хотя бы половина осядет в селе и займется фермерством. И уже какой-то другой известный писатель об одном из них напишет очерк и прославит трудолюбивый род Назарянов на всю страну.