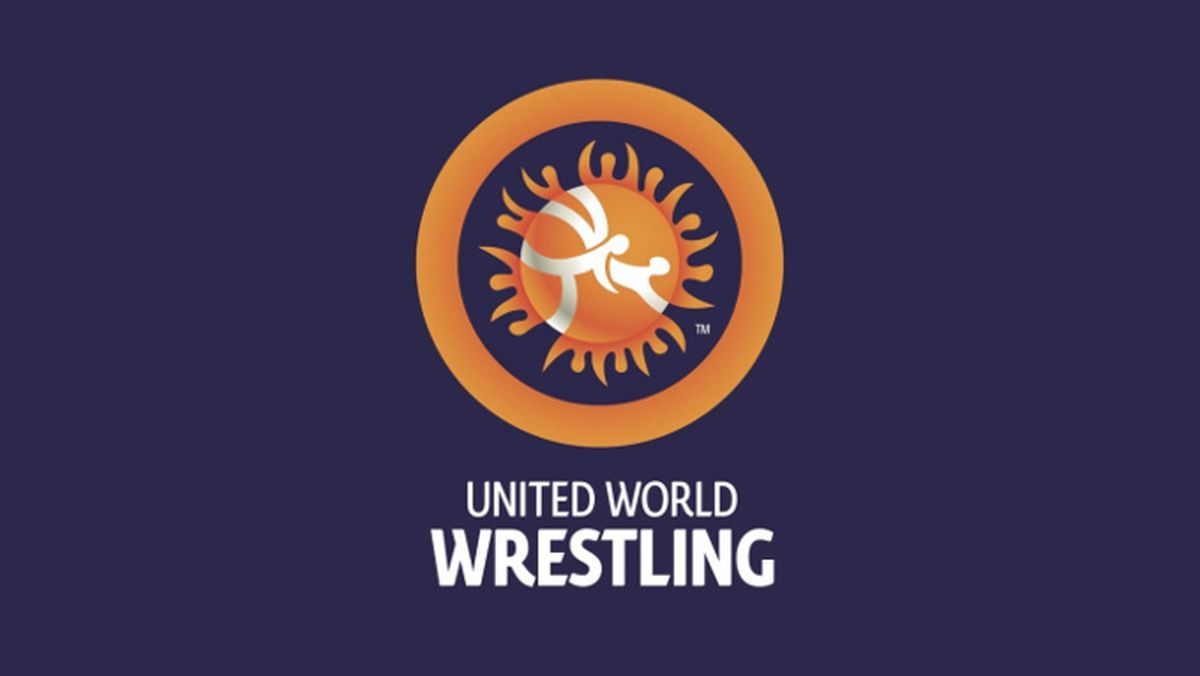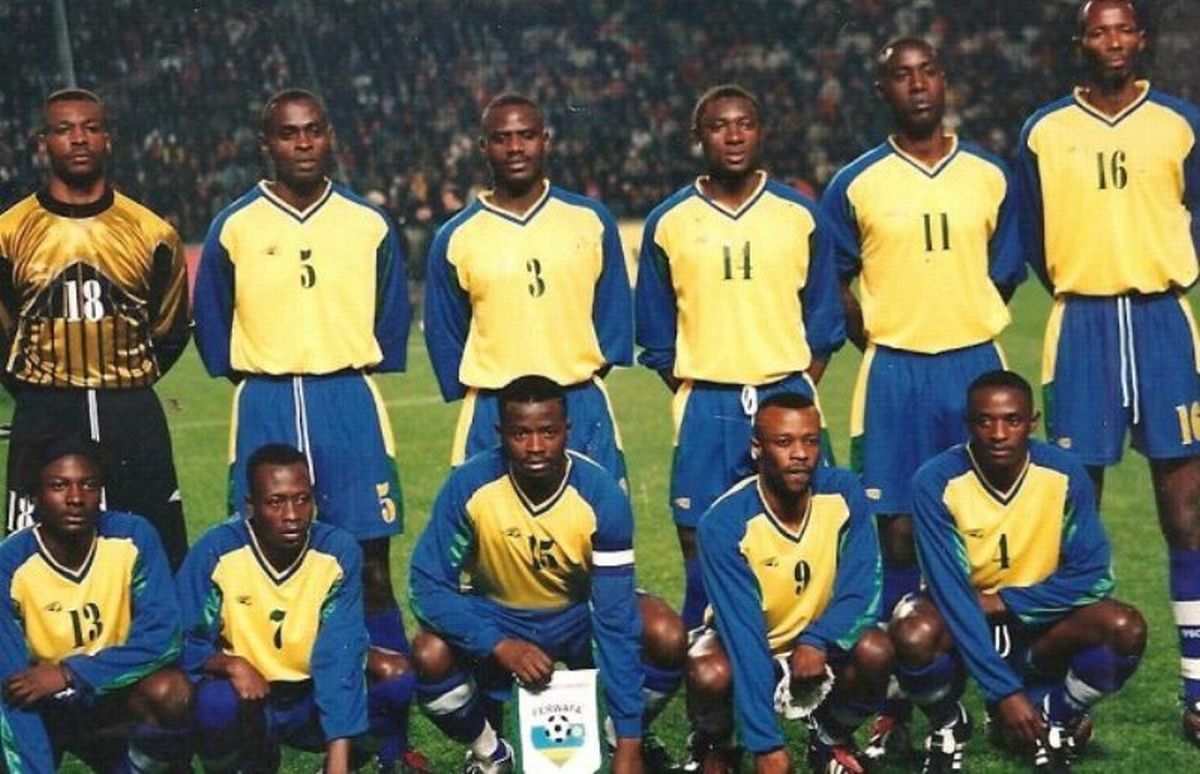Прошли времена, когда, вернувшись с фестиваля или гастролей, артисты могли упоенно рассказывать о неслыханном успехе, а мы верили им на слово. Чаша технического прогресса не минула и эту сферу. И, глядя в записи на несмолкающие овации, которые устроили спектаклю "Я, Чайка" Акопа Казанчяна на Международном фестивале в Корее — одном из самых больших в регионе, убеждаешься, что "захват восточных границ" удался.
Проект "Я, Чайка", созданный Акопом Казанчяном по мотивам великой пьесы и на основе собственной литературной фантазии, родился три года назад. К юбилею Антона Павловича Чехова Московский Чеховский фестиваль осуществил ряд международных проектов, и "Я, Чайка" был в их числе. В первой версии в роли Аркадиной, которой, собственно, и посвящен спектакль, выступила актриса театра Армена Джигарханяна Ольга Кузина. Потом "Я,Чайка" стал жертвой расстояний и несовпадений графиков, и режиссеру было нескончаемо жаль свое детище. А когда пришло приглашение из Кореи на авторитетный международный фестиваль, Казанчян решил, что спектакль надо восстанавливать своими силами. Назначение на роль Аркадиной Ларисы Гевондян, жены Акопа, многие годы работающей в возглавляемом мужем ТЮЗе, из которой режиссер, вопреки традиции, вовсе не стремился делать "звезду" и держал на эпизодических ролях, стало для всех сюрпризом.
"Это было так неожиданно, рассказывает Лариса, — я сначала элементарно не поверила. Дома Акоп часто говорил на эту тему, обсуждал кандидатуру той или иной актрисы. А однажды он позвонил из театра домой радостный: "Знаешь, я нашел исполнительницу, из нашего театра". Я начала называть фамилии, он все говорил, что я не угадала. А когда он назвал меня, даже обиделась, сказала, что нельзя шутить так жестоко. Сначала было чувство страха — смогу ли? Сомнений было уйма. Единственное, что утешало: если не справлюсь, спектакль рампы не увидит. Это я твердо решила: если не получится, ставлю на себе в актерском плане крест. Но Акоп мне очень помогал, действительно вселял уверенность в собственные силы. А в процессе работы я поверила в себя. Это действительно была первая работа, к которой я подошла с большим волнением и тревогой. Тем более в основном почти одна на сцене, да еще такой образ! Тут мне еще очень помог Юра Костанян, исполняющий "немую" роль Тригорина. Он просто редкий человек — талантливый, тонкий, чуткий. Это мне очень помогало и поддерживало".
"Чайка" Казанчяна — версия режиссера, низвержение, развенчивание театрального мифа, решенного в форме мерцающей, манящей театральности. Очарование спектакля рождается из колдовской красоты неясно светящегося бирюзового задника, прозрачно-белых, запертых в клетки чаек, из красоты обдуманных, необыденных мизансцен. Колдовская сила озера, иными словами, могучая тайна жизни, руководившая поступками людей, когда-то здесь живших. "Холодно, холодно… Пусто, пусто…" — как непроходящая боль, с которой приходится жить и от которой никуда не деться. "Холодно, пусто", — твердит Аркадина, согбенная фигура в нелепой шляпке, которую возит по сцене Тригорин в инвалидной коляске, как сама она возит с собой весь скарб скорбных, порой унижающих воспоминаний.
В начало спектакля наряду с темой "это я, а не Нина — чайка, я — актриса!" режиссер вводит и более конкретный мотив, который Чехов ввел первым в большую драматургию и который волновал его всю жизнь, — ситуацию писателя и актрисы. И о своей любви к Тригорину Аркадина рассказывает, словно водя ногтем по стеклу, — с едкой, самоуничижительной самоиронией. В перечне действующих лиц о Тригорине сказано коротко: "беллетрист". Как говорит Костя: "…После Толстого и Зола не захочешь читать Тригорина". Поэтому Тригоринской прозы Аркадина не читает, а читает Треплевский монолог. Вот оно, чистое колдовство слова! Но этот монолог читается не так, как читают стихи над могилой поэта. Этот едкий тон, скрежет ржавого голоса — голоса души, которую, как ржа, разъедали зависть и ревность к Нине Заречной. Не к женщине — к актрисе.

Почти перед самым финалом режиссер ввел сцену воспоминания-триумфа. Аркадина читает монолог Маргариты Готье. В этот момент в ее погасших глазах загорается лихорадочный блеск, она танцует — легко и грациозно, в этот момент на смену скрежещущим звукам приходят неповторимые бархатные интонации. В этот момент она не одинокая стареющая женщина, а актриса! Минута — и опять этот пронзительный голос, уже откровенно имитирующий режущий слух клекот чайки, возвещающий о проигранном поединке с собой, со временем, с жизнью.
"Я много об этом думала, — говорит Лариса. — Это ведь совсем не мой характер, не моя судьба. Но во мне всегда была борьба. О театре я мечтала с самого детства, мечтала быть актрисой. Папа был категорически против, и образование я получила музыкальное. Но эта внутренняя борьба меня снедала. Когда вышла замуж за режиссера, словно появился шанс, но я все равно никогда не позволяла себе что-то лишнее сказать, попросить роль. А года два назад — мы где-то сидели — у меня просто вдруг навернулись слезы на глаза. Акоп спросил, в чем дело, а я ответила: "Наверное, так и умру и никогда, никогда моя мечта не исполнится, никогда у меня не будет шанса попробовать свои силы". И вот этот спектакль — он словно о моих неслучившихся мечтах. Мне хотелось доказать, что пускай у меня не было шанса, но я тоже могла что-то сделать. Аркадина — счастливая актерская судьба. А я отталкивалась от того, что, может быть, и у меня был дар, но меня не заметили".
Судя по зрительскому приему в Корее — а именно там в рамках фестиваля состоялась премьера новой версии спектакля, — заметили, да еще как! И это при том, что по насыщенности и географии программа превосходила все возможные нормативы. Участники нашей группы, побывавшие не на одном фестивале, были окрылены не только успехом, но и восхищены тем, как поставлено в Корее театральное и фестивальное дело. Только армянскую труппу обслуживали человек десять. Люди не помнят, чтобы на фестивале возникла хоть одна проблема — "ну просто ни одной. Любое желание выполнялось мгновенно. Разные спектакли иногда шли подряд, и в скорости, с которой собиралась сцена и ставилась новая, было что-то волшебно-сказочное".
А на Лару наибольшее впечатление оставили зрительская культура, умение читать спектакль: "Правда, шли титры на корейском, но у меня было впечатление, что никто не смотрит на этот экран. А на второй день, когда было обсуждение, стало очевидно, что они прекрасно знают пьесу, заметили даже самые, казалось бы, незначительные режиссерские находки, все нюансы. Их просто восхитила сценография Антона Кешишяна, ему они тоже задавали массу вопросов. Удивительно чуткий зритель, смотрели затаив дыхание! И еще по-настоящему образованный — это увидишь далеко не везде. Молодежь просто ломилась, были люди, которые смотрели спектакль все три раза. Нам устраивали овации, не давали уйти со сцены. Сейчас мне кажется, что это был удивительный, счастливый сон". Сон, который будет иметь продолжение: в конце ноября планируется ереванская премьера "Я, Чайка".
По окончании фестиваля его организаторы попросили тюзовцев оставить фрагменты реквизита — клетку с чайками, шляпку Аркадиной, и не просто на память. Есть у них такая традиция — организовывать выставки по мотивам материалов спектаклей, участвовавших в фестивале. И пользуются эти выставки, оказывается, большой популярностью. Есть чему позавидовать.