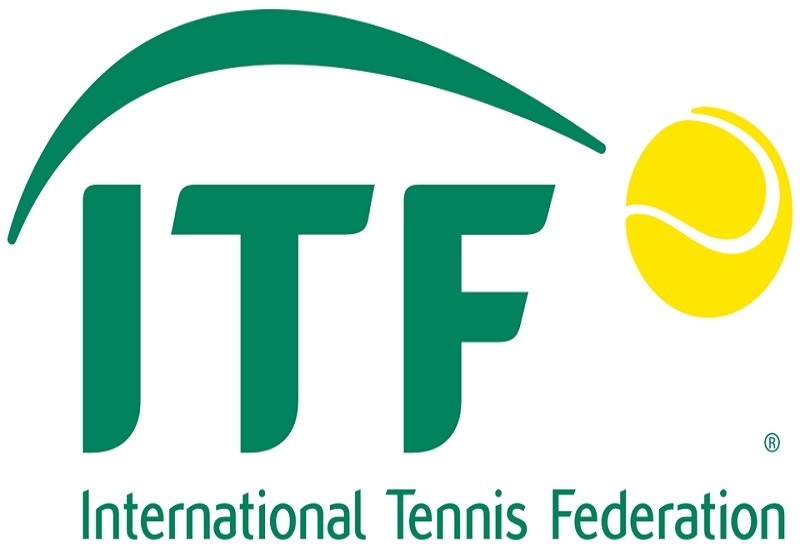убрать этюды Аракеляна!..»
О нем писали такие известные мастера, как Эдвард Исабекян и Габриэл Гюрджян, искусствоведы Вильгельм Матевосян, Генрих Игитян, литератор Мариетта Шагинян и многие другие. И чем больше десятилетий отдаляют нас от земной жизни мастера, скончавшегося на 58-м году жизни, буквально через месяц после открытия своей первой персональной выставки в тяжелом 42-м (остальные выставки были посмертными), тем ярче, весомее и прекраснее становится нетленное искусство художника.
Седрак Аракелян не был обделен вниманием: работы его экспонировались на протяжении всей его жизни не только в Ереване, но и в Москве, Тифлисе, Петербурге, а также в Венеции, Париже, Стокгольме и Нью-Йорке. Было и несколько посмертных персональных выставок в Ереване, и всегда, и везде художнику сопутствовали признание и искреннее восхищение, ибо как музыке можно внимать всем своим существом, не анализируя и не вникая в тайны профессионального мастерства, так и творчество С.Аракеляна воспринималось прежде всего эмоционально, волновало своей непосредственностью, романтическими порывами, будило все лучшее в человеке.
…Родился Седрак Аракелян в крестьянской семье в нахиджеванском селении Джаук. Был отправлен отцом в Тифлис, где работал подручным портного, чтобы осуществить мечту отца и стать мастером-портным. Но счастливая случайность привела его сначала в Тифлисскую школу живописи и скульптуры, где он учился у Е.Татевосяна и Б.Фогеля, а затем и в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — к А.Архипову, К.Коровину и А.Васнецову. Побывав в Армении, он навечно был очарован ее природой, озером Севан и в 1919 году окончательно обосновался в Ереване, женился, стал отцом, активно участвовал во всех художественных и общественных начинаниях молодой советской республики.
Он первый директор Художественной школы (ныне училища им.Терлемезяна), где преподавал вплоть до 37-го года; он не только член Союза художников Армении, но и член правления, руководитель секции живописи, участник организации изопередвижной мастерской и ее экспедиций. Однако неумолимая судьба прервала жизнь мастера, когда искусство его было в расцвете и остались незавершенными многие планы, несбывшимися — мечты. Но планка уже сотворенного была столь высокой, что художник без споров и сомнений занял одно из первых мест в отечественном изобразительном искусстве, где пребывает и поныне, когда благодарные соотечественники отмечают его юбилей, — 125 лет со дня рождения.
В творческом наследии С.Аракеляна преобладают пейзажи, однако его композиции «Севанские рыбаки» и «Культуру — в горы!» врезаются в память, как и несколько созданных им женских портретов. Тот тонкий сплав реализма и импрессионизма, который осуществил художник, заполнив светом и насыщенными красками, пропитав свежей воздушной струей свои полотна, никого не могжет оставить равнодушным.
Уже в одной из ранних работ — «Портрете Сирануйш Берберян» (1913) — бросаются в глаза стремление к психологической обрисовке образа и эффект цветового контраста — черного и красного. Как верно заметил Генрих Игитян, колористом невозможно стать, им нужно родиться. И добавим: армянский художник должен создавать национальный колорит. А передать глубокий исчерпывающий взгляд моделей — будь то автопортрет или запечатленная дважды С.Берберян, поражающая особой человеческой глубиной Рипсимэ Саргсян или безвестный передовик производства — мог только творец, наделенный не только исключительным живописным мастерством, но и глубоким, и богатым внутренним миром, впитавший культурное наследие армянской и мировой истории.
Нелегкий труд севанских рыбаков в одноименной композиции (1935) подчеркнут и нарочито сдержанной цветовой гаммой в коричнево-сиреневых тонах, и динамичностью персонажей, и неспокойной погодой на озере. По всему берегу и близлежащему кусочку воды строго продуманно выписаны фигуры рыбаков, и весьма конкретный материал обобщает большую тему. Иной художественной задачей руководствуется мастер при создании уникального полотна «Культуру — в горы!» (1936). С.Аракелян смело дает здесь волю фантазии, четко и красочно живописует верблюдов, несущих на себе самый ценный во все века для нашего народа объект культуры, — книги, учебные атрибуты.
Но чаще всего живописец обращается к незатейливым картинам природы, неприхотливым уголкам родного края, находя неисчерпаемое очарование в пекущих хлеб женщинах, осенних аллеях в садах Еревана, его старом рынке и караван-сарае. Обращаясь неоднократно к видам Севана, его монастырям, скалам и гористым берегам, С.Аракелян всякий раз выбирает новый ракурс изображения, новое освещение, разное время года и дня и неустанно любуется сам и делает нас причастными к чуду природы. А как прекрасны его весенние цветущие деревья и особенно осень в роскошном убранстве, в многоцветье оттенков и тонов! И горы, армянские горы, выступают то в охристой гамме («Пейзаж», 1939), то окрашенными в розовый цвет зари («Розовые скалы», 1940, «Севан. Утро.» 1940), то в суровой синеве («Малый Масис», «Гора Ара»).
Неожиданность подачи вначале поражает, но вскоре становится родной, и вечным покоем веет от подсмотренного неординарным взглядом художника неповторимого пейзажа, от женских фигур, занимающихся привычным делом, — сбором хлопка, пшата, выпечкой хлеба…
И преисполненный увиденным, обогащенный им, человек полнее, красочнее и благодарнее воспринимает не только картины родной природы, но и саму жизнь, где вместе с горестями, потерями, катастрофами есть и безусловное благо, — роскошь постижения искусства и его вечных ценностей.