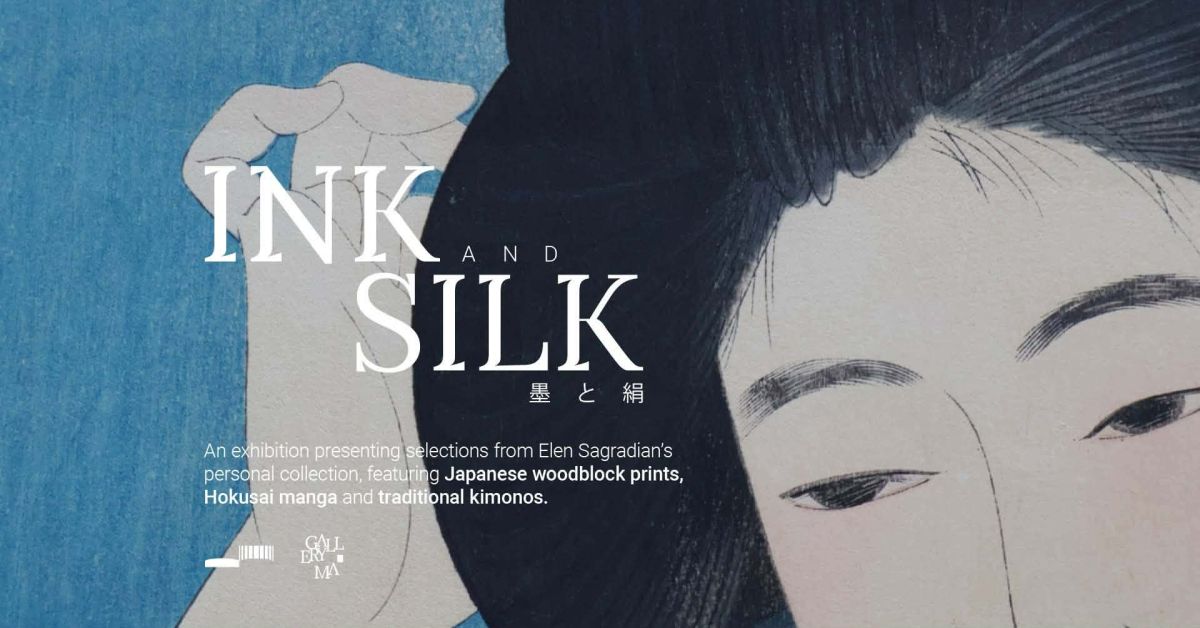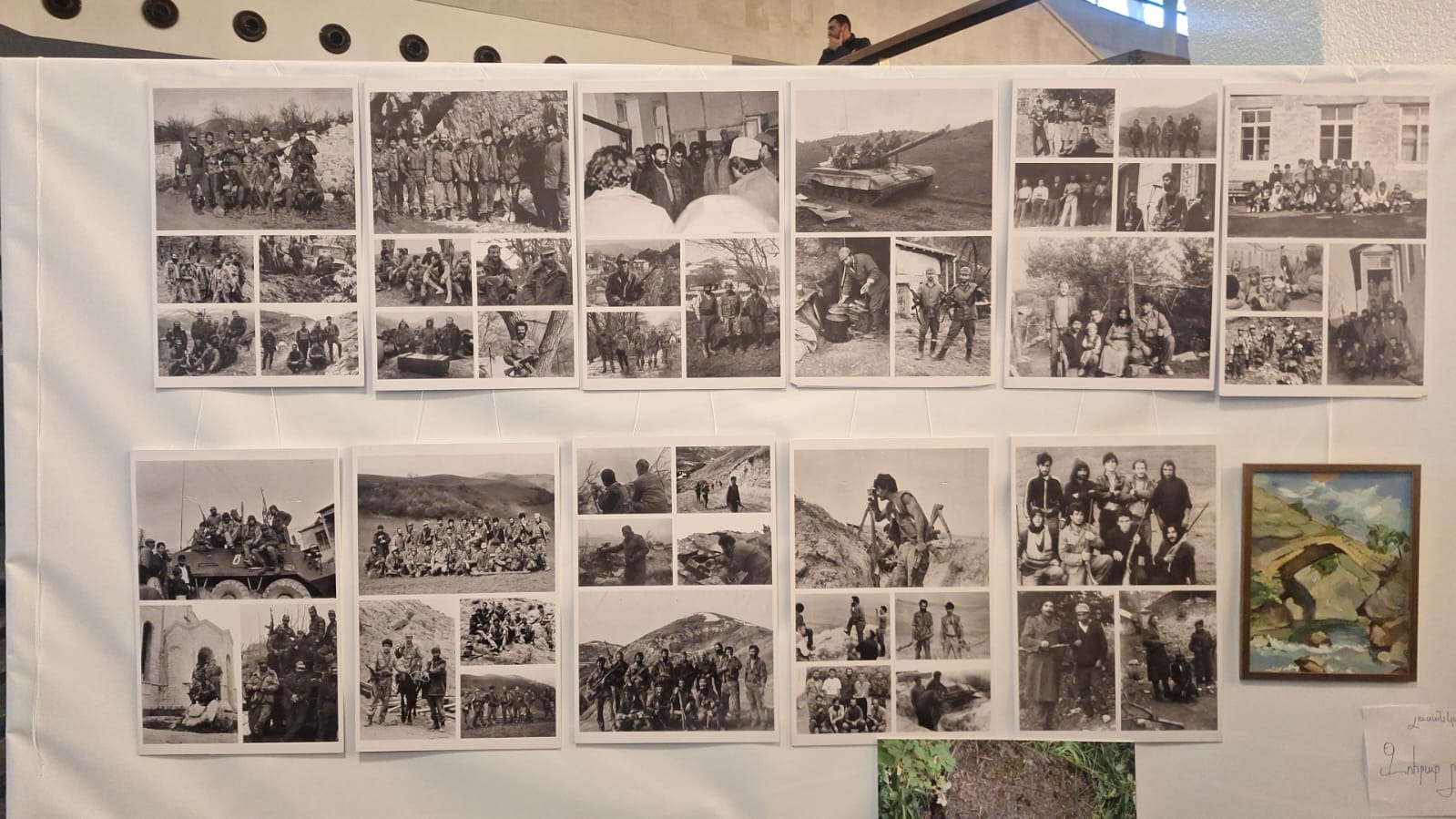Тот, кто хочет писать
портреты или исследование о Чайковском, должен обратить особое внимание на то, как
неуклонно росла с годами его личность, как дух его овладевал собой, как из нерешительного,
болезненно робкого Пети прорастал Петр Ильич — человек большой внутренней силы,
беспримерного сосредоточения на главном. Без сильного характера столько шедевров
не создашь, не поднимешься на такую высоту самоконтроля. Он умел вчитаться в
собственную натуру и, мне кажется, к концу жизни уже и секунды не терял даром.
Отсюда — неслыханное количество созданного и умение никого никогда не подводить
в сроках. А ведь речь идет не о посредственных творениях. У Чайковского надо
учиться умению организовать жизнь.
КАК МЕНЯЛОСЬ ЕГО
ЛИЦО С ГОДАМИ! ПОДВИЖНОЕ, КАК ВСЕ НЕРВНЫЕ ЛИЦА, оно приобрело с течением
времени беспримерную духовность, необыкновенную интеллигентность, но, увы, и
страдальчество. Судьба словно прошлась последним резцом по его красивым чертам. В детстве за
чрезмерную впечатлительность его звали стеклянным ребенком. Ближе к концу жизни
это был уже стеклянный старик. Старик в пятьдесят три года? Да, он очень рано
постарел. Плотная шапка рано поседевших волос редела, густая сеть тонких
морщинок покрыла лицо, рельефней стали вены на висках. Взгляд, приобретший в
середине жизни некоторую уверенность (после болезненных детства и юности),
отрешен и растерян. Жизнь нещадно терзала его натуру с оголенными нервами. И
дотерзалась.
У него определенно особые отношения с виолончелью
(любимый инструмент?). И с гобоем. Но с виолончелью особенно. Что ему ее низкий
грудной голос? Почему его так тревожат эти сочные глубины? Что прозревает он за
этим матовым, почти человеческим голосом, за этими низкими гудящими тонами
неописуемой красоты? Что? Голос рока? Темных мистических сил? Даже там, где
виолончель у него празднична, где она торжественно и мощно взмывает, как,
например, в «Щелкунчике» (адажио), где оркестр, можно сказать, перед
ней расступается (каким щедрым, а главное, богатым надо быть, чтобы отдать
балету то, что даже и для симфонии слишком прекрасно), — так вот даже там, на
самом гребне, на самом вираже мелодии обозначено присутствие некой грозной
силы. Словно в самой глубине сцены проходит некто в черной маске.
Кто или, вернее, что убило Чайковского? Вопрос можно
поставить и так: что убивало его всю жизнь? Не это ли страдание раньше всех
прозрела в нем фон Мекк?
В Шестой симфонии есть места такой инфернальной
запредельности, что их трудно представить себе созданными рукотворно: перед
нами как бы сам голос преисподней. Холод, пробегающий по спине, есть точнейшая
реакция на этот шелест иномирности. Взмывающие из невидимых бездн звуки,
гармония нечеловеческих звонов, я бы даже сказала, нечеловеческих рыданий,
овеществление того, что никогда не звучало под солнцем. Под солнцем — в
буквальном смысле, то есть при свете дня. Вот где кончается искусство и дышат
почва и судьба.
СУДЬБА ОСОБЕННО. У
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВСЕГО ТРИ ВЕЛИЧАЙШИХ РЕКВИЕМА: «Страсти по Матфею» Баха, Реквием Моцарта
и Шестая симфония Чайковского. Глубже о страданиях, истерзанности и смерти
никто не сказал. Вот ответ тем, кто не устает говорить о сентиментальности
музыки Чайковского. В Шестой симфонии он поднялся на высоту Баха и Моцарта. А
по исполняемости он третий композитор в мире — после Моцарта и Бетховена. Это
не может быть случайным. Да и в балеты он внес то, что Шекспир внес в
драматический театр — повышенную кристальную серьезность и завораживающий
трагизм. Такой музыки не знали европейские балеты, большей частью все же
легковесные. Да и никто не ждал от балета глубокой музыки. А тут! Россия, как
всегда, смешала миру все карты. Ну не может она ничего делать вполсилы: если
роман, то «Война и мир», если балет, то музыка, которую можно слушать
даже отдельно от представления. Какой пустой кажется балетная музыка иных даже
крупных композиторов после музыки Чайковского.
Но не только балеты. Из опер «Пиковая дама»,
как и «Дон Жуан» Моцарта, отрывается на дистанцию огромного размера,
стоит особняком. «Дон Жуан» — это предвестие Реквиема, как и
предвестия страшных тем Шестой симфонии здесь, в «Пиковой даме». Душа
уже набухает последней бедой. Командор уже делает свои первые крупные шаги. Его
шагов еще не слышит никто. Но только не тот, к кому он идет. В «Дон
Жуане» столько красоты, что ее хватило бы на несколько опер, сказал об
этой опере сам Чайковский. А более тончайшей оперы, чем «Пиковая дама»,
в мире нет. А уж глубина и красота беспредельные. Даже сам Чайковский это
чувствовал. «Или я ничего не понимаю, или я создал шедевр», — писал
он брату из Флоренции.
ГОВОРЯТ, ОН ЕЩЕ
НЕПЛОХО ПЕЛ (НАЕДИНЕ ИЛИ СРЕДИ САМЫХ БЛИЗКИХ). Можно вообразить себе это
«неплохо». Нежней и проникновенней, полагаю, не пел никто. Пение —
это ведь не одни голосовые данные.
Самый великий из русских композиторов (а Чайковский им
был и остается бесспорно), еще и самый универсальный. «Времена года».
Прекрасная способность на свод дана не всем. На обожествление круговорота
бытия, круговорота года. Все пьесы «Времен года» прелестны. Все два
перла исполняются чаще всего — июнь («Баркарола») и октябрь
(«Осенняя песнь»). Говорят, Сергей Рахманинов прославился гениальной интерпретацией
ноября («На тройке»), передачей звона бубенцов (и это на рояле!). Но
октябрь («Осенняя песнь»), даже не найдя такого гениального
интерпретатора, все же вершинное творение во «Временах года».
Октябрь. Что значил для Чайковского октябрь? Умер
(покончил с собой) он тоже в октябре. Случайность? Случай — это язык Бога.
Такого скопления народа, как на похоронах Чайковского,
Петербург еще не знал. Хоронили под «Похоронный марш» из музыки к
«Гамлету» самого Чайковского. Играл военный оркестр. Последние
почести телу принца, пронесенному на щите. В данном случае — музыкальному
принцу. Двое рабочих на Невском
проспекте, перепачканных известью и красками, сняв шапки и прижав их к груди,
смотрели со строительных лесов на печальное шествие, и вдруг один из них громко
произнес: «Смотри, Русь, незабвенного везут!»