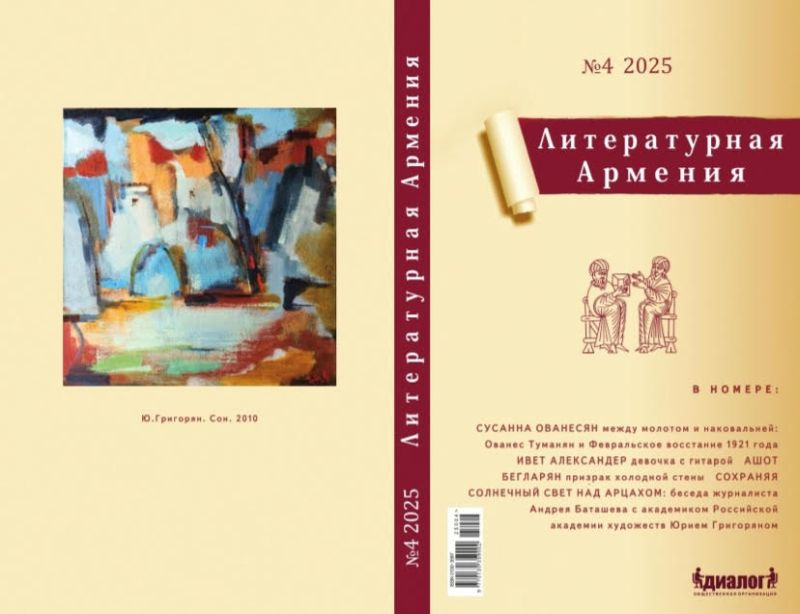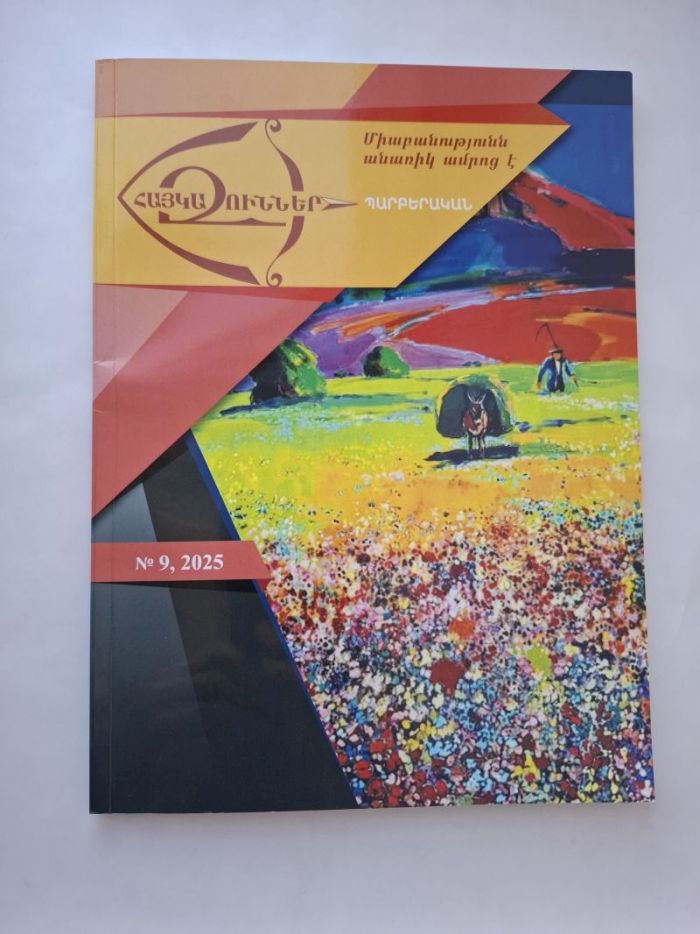Эта фраза с прицелом на афоризм поневоле вспоминается, когда знакомишься с жизнью писателя армянского происхождения Костана Заряна (1885-1969). Разобраться в его биографии и творчестве поможет читателю книга Гоар Рштуни «Заметки о Костане Заряне», вышедшая на армянском и русском языках.
Гоар Хачатуровна Гарибян (Рштуни) родилась в Ереване, окончила ЕГУ, аспирантуру в МГУ, стала кандидатом химических наук. Публиковать свои литературные произведения начала с 2010 года. Является автором рассказов, новелл, книг об исторических личностях, деятелях культуры. В этом ряду и эссе о Заряне.
О биографии коротко
Зарян (Константин Егиазарянц) родился в семье царского генераала Хачатура Егиазарянца, по крови состоял в близком родстве с земляками из Шемахи — артистом Ованесом Абеляном и писателем Александром Ширванзаде. В 4 года, после смерти отца, Зарян был разлучен родными с матерью, передан на воспитание в русскую семью, учился в русской гимназии в Баку, потом с братом во французской школе в Париже, в 1905 году закончил лицей, затем Брюссельский свободный университет (по совету В.И. Ленина). Мальчик вырос без матери и родины, не знал армянского языка, писал на французском и русском, и все это очень многое решило в его судьбе.
В 1908 году был брошен в Мюнхене в тюрьму за связь с большевиками. Старниями ректора университета Гийома де Грефа и Эмиля Верхарна юноша был выпущен на свободу. По совету того же Верхарна отправился к мхитаристам (остров Сан-Лазаро) изучать армянский язык. Далее придется за неимением места просто привести маршруты передвижений Заряна по Европе и остальному миру.
Германия — Швейцария — Стамбул — Болгария — Рим — Флоренция — Стамбул — Ереван — Рим — Флоренция — Испания — Греция — Нью-Йорк — Голландия — Ливан — Вена — Калифорния — Ереван.
Зарян пишет статьи, стихи, прозу на трех языках, издает журналы (правда, они быстро закрываются), читает лекции об армянской истории. Для журналиста постоянные разъезды и контакты в разных странах — полезный опыт познания жизни других народов. Писатель обязан копать глубже. Возможно ли это при вечной смене декораций и недостатке времени, сказать сложно.
В активе Заряна близкое знакомство и общение с крутыми современниками в лице Ленина, Плеханова, Аполлинера, Леже, Пикассо, Лорки, Бунина, Цвейга и многих других. Из армян встречался с Комитасом, Сиаманто, Варужаном, Зограбом. Все это обогащает, попутно высоко поднимая человека в собственных глазах.
В предисловии книги Рштуни доктор политических наук Ранья Арзуманян выделяет плюсы и минусы заряновского видения жизни. К минусам относит элитаризм как константу заряновского творчества. Добавлю цитату от Заряна: «До сих пор я даже не читал того, что называют основными произведениями армянской литературы». Это сказано в 60-е годы. Почему?
Зарян и Армения с третьей попытки
В 1919 году Зарян в качестве итальянского корреспондента оказывается в Армении. В 1920-м возвращается во Флоренцию. Осенью 1922-го приезжает с семьей жить, преподает в университете. Ошеломлен тем, что студенты не знают иностранных языков, а страна в ужасном состоянии. «Грязь, вонь и неопределенность». Здесь, прошу прощения у классика, хотелось бы заметить, что литература это не только ответ на вопрос «как?», а прежде и важнее всего разобраться в «почему?» Какой могла быть в 1922 году преданная всеми и раздавленная Московским договором 1921 года, катастрофически уменьшившаяся по площади и населению Армения?!
Однако люди с армянской кровью, оставив благополучие и перспективу на чужбине, возвращались, чтобы сделать «вонючую» Армению лучше. Назову только Александра Таманяна и Мартироса Сарьяна. И сделали. Зарян не принял увиденную Армению. В 1924 году с семьей уехал в Европу якобы с поручением Наркомпроса и остался там, принявшись сразу критиковать Советскую власть и компартию. Это его выбор, естественно, получивший соответствующую оценку и реакцию в Армении, где его не издавали многие десятилетия. Ныне стараниями издателя Сергея Хачикогляна и литературоведа Ерванда Тер-Хачатряна издано уже 15 томов. В них главные прозаические творения — «Корабль на горе», «Странник и его путь», «Рабкооп и кости мамонта», «Испания», «США», поэзия. Это поможет сегодняшним уцелевшим армянским читателям лучше узнать того, кого признавали европейцы.
Зарян возвращается, а начало этому положил великий гуманист, Католикос Вазген I, уговоривший писателя на встрече в июле 1960-го приехать в Ереван. В 1962-м Зарян переезжает. Рштуни описывает, что на родине опять писателю пришлось не сладко по ряду причин. Начиная с того, что его не знали, не читали. А Зарян был из другого мира, из того, где был своим.
Язык мой — враг мой, и комиссия Маккарти
Не берусь оценивать всего творчества Костана Заряна. И вообще, честно говоря, долго колебался, писать или нет о книге Гоар Рштуни, знакомящей читателя с нюансами написанного, прожитого и сказанного человеком, которого переводчик на английский язык Ара Балиозян называет «гигантом мировой литературы, сравнимым с такими мастерами, как Джеймс Джойс, Томас Манн и Жан-Поль Сартр». Есть оценки, включающие Заряна в список крупнейших армянских поэтов XX века. То есть рядом с Туманяном, Исаакяном, Теряном, Чаренцем, Севаком? Здесь позвольте усомниться, несмотря на встречные возгласы оппонентов в балагановской интонации: «А ты кто такой?»
Я — армянин и попытаюсь объяснить свою точку зрения насчет места в списке поэтов. Но до этого несколько слов, почему Зарян долгое время был чужим среди своих. Рштуни справедливо указывает на судьбу многих выдающихся армян в период сталинских репрессий и радуется, что, уехав, Зарян избежал ее. Этих преступлений, конечно, забывать нельзя, хотя сейчас в России часть политиков стремится идеализировать все годы Советской власти и жизни за занавесом.
Но давайте заодно вспомним, что в эпоху беспощадного противостояния двух экономических систем по другую сторону занавеса родился Гитлер, а в США — комиссия Маккарти. Богатеи после Октябрьской революции поняли, что могут потерять свои денежки и принялись жестоко преследовать в «бастионе демократии» США тех, кто симпатизировал большевикам.
Комиссия сенатора Д. Маккарти была создана в Конгрессе для борьбы с «подрывной и антиамериканской пропагандой». Действовала с 1934-го до 1975(!) гг. Называлась «Комиссией по расследованию неамериканской деятельности». В середине 40-х преследовали Чаплина, Брехта, певца Поля Робсона, позже Артур Миллер невыездным стал. Некоторые из «неблагоразумных» заканчивали самоубийством, чтобы не угодить за решетку. Кстати, выражение «железный занавес» принадлежит не Сталину, а Черчиллю. Так что, понимая негативную оценку поведения некоторых армянских литераторов в 1937 году, объективно выставленную Рштуни, хочу заметить, что тогда жена второго человека СССР Михаила Калинина сидела в тюрьме, а гражданам меньшего, чем «всесоюзный староста», калибра приходилось ряд лет выбирать между жизнью и смертью.
Зарян, к счастью, жил в те годы за границей, критиковал Советы, а, приехав, был огорчен, что его тут не знают — не печатали. Любопытно напечатали бы в США тогда литератора, который в адрес Д. Вашингтона и А. Линкольна написал бы: «Глиняные головы Маркса и Энгельса после дождя выглядели орангутангами».
Цитата из письма другу: «И то, что я называю культурой, создается отнюдь не журналами и не пережевыванием валяющейся на улице дешевой французской мысли». Французу понравится?
А вот начало мысли: «Армянин не может уважать русского, как и турка. Они не умеют тесать камни… Он их презирает». Ставить на одну доску русских и турок? Увольте. Опускаю ряд других тезисов классика.
И давайте свернем к армянам
Еще раз хочу выразить сочувствие ребенку, выросшему без отца, матери и Родины, но создавшему замечательную семью и оставившему талантливых потомков. О них Рштуни тепло пишет в книге. В ней уделено много места поэме Заряна «Татрагомская невеста». Сюжет и то, что армянин обратился к такому сюжету, меня поразили.
Западная Армения. Парень, фидаин, женился на красавице, и утром ушел в горы защищать родину. 6 лет нет известий. Жена влюбляется в курда и живет с ним. Фидаины, узнав, спускаются с гор, убивают курда, а изменницу доставляют к мужу, чтобы он своими руками наказал ее. Наказывает. Точка.
А у меня вопрос: «Как мог крупнейший армянский поэт XX века взяться за подобный сюжет? Что его так восхитило? Измена жены фидаина? Да еще с курдом? Известно, что курды почти наравне с турками виновны в истреблении армян в годы Геноцида. Убивали, чтобы присвоить чужую землю. Этот присвоил чужую жену. И стал героем поэмы, написанной армянином?»
Опускаю восхищенные оценки в адрес поэмы со стороны Рштуни. Это, мягко выражаясь, нонсенс. Да еще сравнение «Невесты» с туманяновской «Ануш» и достойной оперы? Это — не по-армянски.
И напоследок еще одна мысль Заряна: «Наша духовная пища исходит от Арарата, сухой, безжизненной, экономически бесполезной горы». Комментируйте гору сами.
Под занавес
Костан Зарян как-то заметил: «Армянин, живущий вне своей родины, перестает быть армянином». Тут он в большинстве случаев прав. Жаль, что человек лишь в 75 лет обрел Родину, где прожил до конца 1969 года. И ушел, не сделав того, на что был способен, если б по утрам любовался великолепием библейского армянского Арарата — вечного символа Армении.