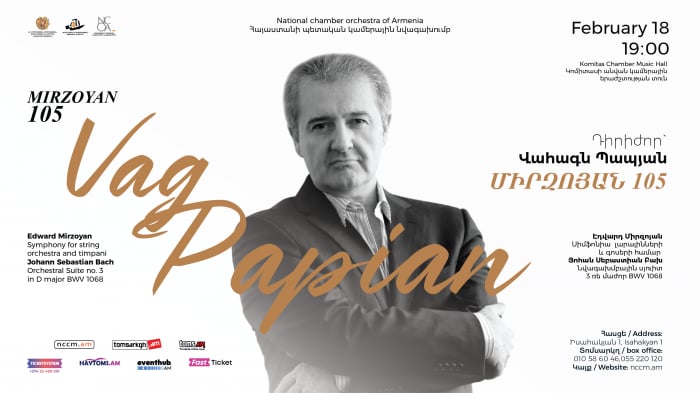К 90-летию Булата ОКУДЖАВЫ
Если хочешь, чтобы тебя читали, будь талантливым. Если хочешь, чтобы тебя не только читали, но и любили, будь талантливым и человечным. Изобретательных, но недобрых и интеллектуально иссушенных пролистывают, не задерживаясь душой. Булата Окуджаву поют, восхищаясь и любя, благоговея. Песни его легко запоминаются, ибо ему радостно подчиняется форма. Что, конечно, есть знак того, что и содержание к нему благосклонно. Мелодии чистой певучести тоже очень помогают запоминанию. Песенки эти чувственно притягательны, слова их более чем точны («Но чудится музыка светлая и строго ложатся слова»). Именно строго, сжато, лаконично.
СПЕЛ
ЛИ ОН СВОЮ «САМУЮ ГЛАВНУЮ ПЕСЕНКУ»? Они все настолько хороши,
особенно зрелые и поздние, что выделить среди них лучшую и главную просто
невозможно. Десятилетия, заполненные голосом, который становился все
утонченнее, все проникновеннее, все щемящее. А он все шел и шел вперед.
Композиторское в нем становилось нешуточным, поэтическое — запредельно
прекрасным. Что-то храмовое, что-то, если так можно выразиться, аве-марийное,
что-то молитвенное, даже, я бы сказала, колыбельное скрыто в этом неразрывном
союзе певучей музыки и высокого слова. На громоздких магнитофонах с катушками вся
страна записывала смелого барда. Тогда он был только смел, дерзок, неожидан.
Позже он стал проникновеннее, и уже навсегда.
Было и у него (правда, очень раннего)
то, что мне не нравилось. Скажем, та песенка, где грузин вел девочек в
отдельный кабинет в московском ресторане. Но через годы Окуджава кончил
молитвой Грузии (и покаянием, я думаю). «Виноградная косточка» —
какая здесь слышится рыцарственность! Он пел свою «Грузинскую песню»,
этот шедевр поздней зрелости, и я в который раз ловила себя на мысли: да,
птица, отбившаяся от стаи… Кавказ! Тогда я еще не знала, что он наполовину
наш соотечественник (по матери).
«Виноградную косточку в теплую
землю зарою…» В теплую. То есть в южную. Он вспомнил. Булат Окуджава —
дар Кавказа России. И не просто Кавказа, а самой его древней части —
Закавказья. Две тифлисские армянки Ашхен родили двух выдающихся людей России,
одна в XIX веке — Василия Ивановича Немировича-Данченко, другая в XX веке —
Булата Шалвовича Окуджаву. Грузия и Армения встретились в высоком барде.
Бесценный дар ушел в Россию. Он любил Ашхен, прошедшую столько страдательных
дорог. («Но горести моей прекрасной мамы», «Мама, белая
голубушка», «Твои руки, твои песенки, твои вечные глаза»).
«Во мне течет грузинская и армянская кровь, но все-таки я арбатский»,
— написал он о себе. Да, детство на старом Арбате. В ушах его так и остался
московский говорок. Но внешность — таких лиц на Кавказе тысячи.
Не выпустим из виду и такую важную
деталь: он в родстве с великим армянским поэтом Вааном Теряном. То есть в его
материнском роду сразу два выдающихся поэта. Такая генетика уже не шутки.
КАЗАЛОСЬ
БЫ, ТАК ПРОСТЕНЬКО — ПЕСЕНКИ. Но какая завораживающая, пронзительная
атмосфера стояла в зале. И сколь многословными, захлебывающимися в словах
казались рядом с ним иные поэты той поры. А он стоял один — членораздельный,
строгий, мягкий и высоко поэтичный. Сколькие поэты слиняли и поблекли, а его
звезда все разгорается и разгорается. Вот что значит истинный талант. Он все
мудрел с годами, его дар вызревал, вычищался, кристаллизовывался. Его нещадно,
непрошенно аранжировали, подчас с булыжной грацией, с педалированием
музыкального инструмента, заглушавшего целомудренные слова. Его перепевали с
нажимом вокала, забывая, что его песни нежно и тончайше трепетны, пели
спрямленно, плоско, примитивно, безоттеночными голосами без гибкости,
интонацией антиокуджавской. Пожалуй, кроме Елены Камбуровой. А когда его
песенки о чести о достоинстве поют не очень достойные люди, экран сразу дает
нам это почувствовать. Самому же Окуджаве даже таких слов говорить было не
надо: каждый зритель сердцем чувствовал, что перед ним чистый, достойный и
несуетный человек. И лица людей светились, на сцену летела любовь зала.
Подкупает и то, что он никогда не был
диссидентом. Но они облепляли его и приписывали ему антисоветчину. Это смутно
сказавшему: «Но из грехов своей родины вечной не сотвори ты кумира
себе!» А они все сотворяли и все еще сотворяют. Душные люди: все борются и
борются.
Он умер не только потому, что штучные,
неповторимые изделия уже не требовались эпохе масскультуры и гламура. На
подмостках (вообще в искусстве) теперь творится что-то невообразимое. Могло ли
выдержать все это сердце тончайшего барда? «Все слабее звуки прежних
клавесинов, голоса былые…» Грубая
эпоха упразднила его. Не только грубая, но и болтливая. Его же слова ложились
строго.
«Судьба,
судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе…»