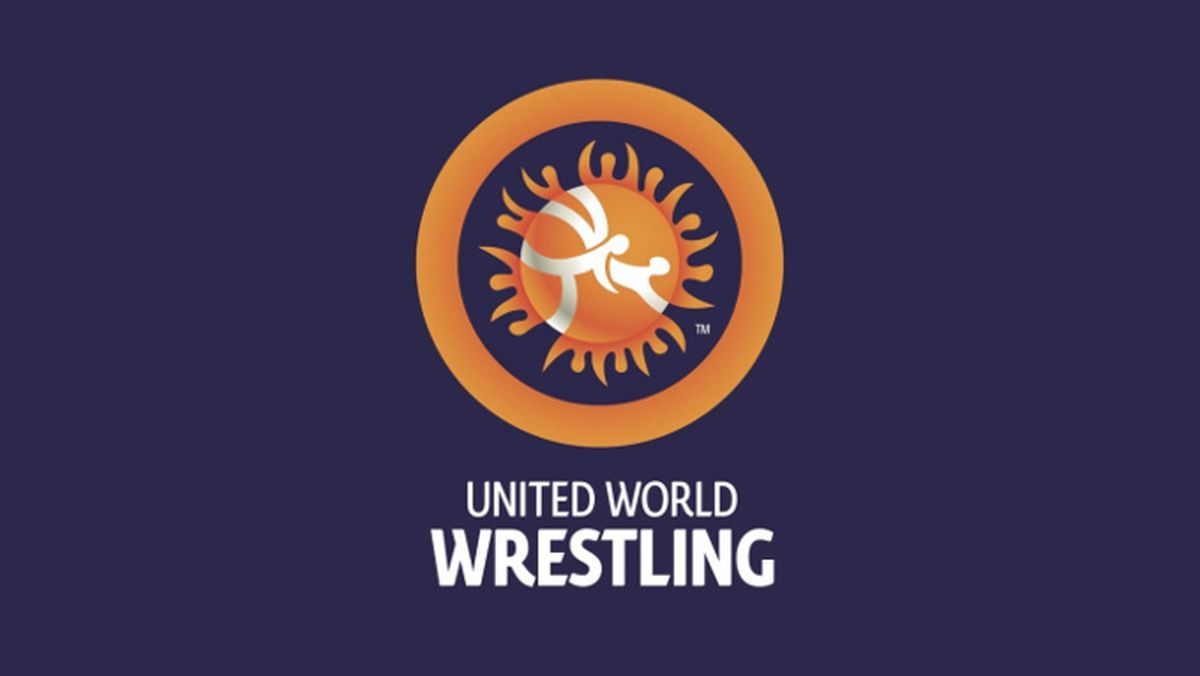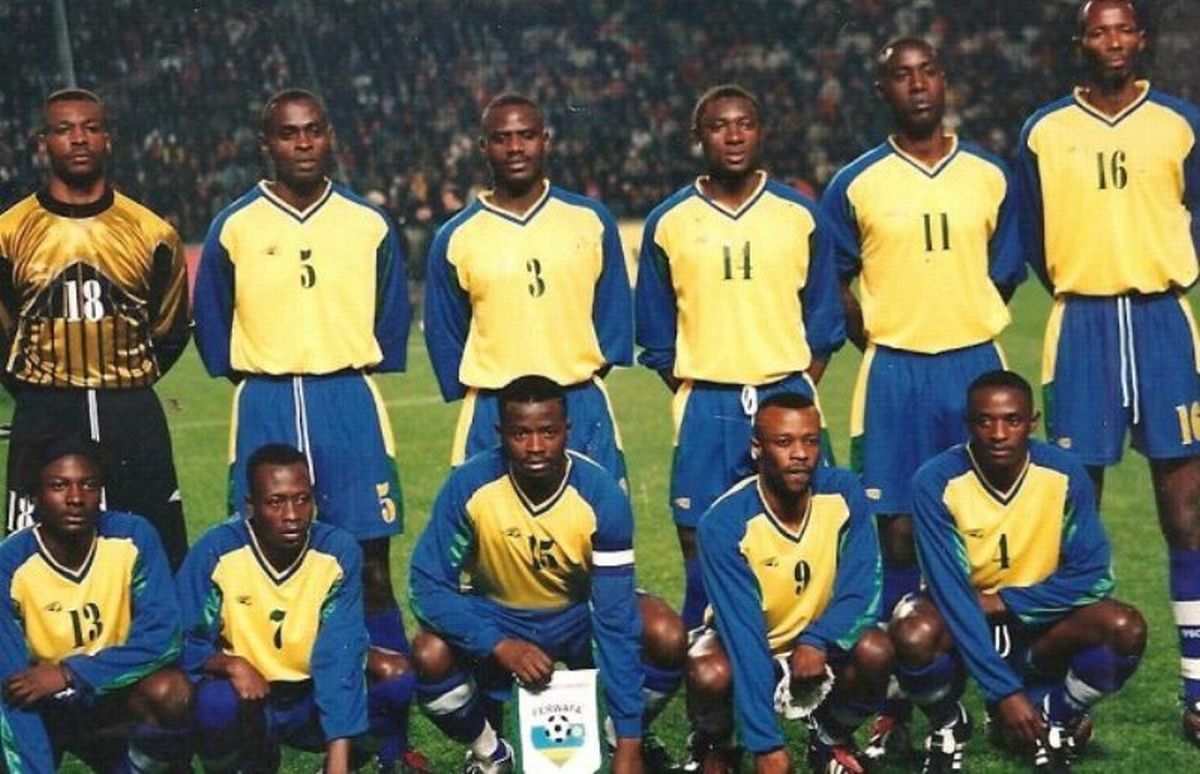Больше месяца в столице и регионах проходил очередной, IV республиканский фестиваль "Театр-Х", который смотром мировых достижений себя не провозглашает, скромно ограничиваясь функцией рупора театральных проблем, поскольку в фокусе фестиваля не спектакли даже, а их общественные обсуждения. За почти 40 дней фестиваль отсмотрел 42 спектакля едва ли не на всех театральных площадках страны. В результате у его директора кандидата искусствоведения, президента Национального театрального творческого объединения Ара ХЗМАЛЯНА возникло множество новых планов.
— Араик, фестиваль "Театр-Х" в этом году раздавал своим победителям не просто памятные подарки, а "средства на расширение". Как вам это удалось?
— Действительно, это беспрецедентный случай, подобных наград театральный мир не удостаивается. Уже четвертый год наш фестиваль финансирует Министерство культуры. А расширение рамок региональной программы и призовой фонд – это уже благотворительный фонд Гагика Царукяна. В этом году призовой фонд увеличился вчетверо: против прошлогодних миллиона восьмисот тысяч – шесть с половиной миллионов. Соответственно, увеличился охват потенциальных призеров. Мы решили первые две премии давать за творческие достижения, а еще три – как бы поощряя и предоставляя возможность решать социальные и технические проблемы. В итоге по миллиону получили театр при Доме Москвы, Драмтеатр г. Абовяна и Капанский театр. А творческих премий – два и полтора миллиона — удостоились "Мим-студио" и труппа "Агора". В прошлом году на деньги, "завоеванные" на нашем фестивале, Заруи Антонян поехала в Петербург и завоевала там приз. Театр Шуши на эти средства купил сценические костюмы. В этом году "Агора" уже начинает новую постановку. Капанский театр покупает себе занавес. Театр Абовяна собирается что-то ремонтировать. Очень важно, что эти деньги идут на решение чисто театральных проблем.
— Ваша главная задача – не просто панорамировать спектакли, но организовать вокруг них атмосферу, поднять, так сказать, уровень шума. Насколько удалось?
— В этом году программу фестиваля составили 32 спектакля, и это чисто количественное изобилие, оно в то же время и не просто количественное. Это означает, что те вопросы, которые мы пытаемся разрешать, действительно совпадают с желаниями и ожиданиями зрительской аудитории. Многие помнят, в какой атмосфере проходили наши первые обсуждения: с каким трудом люди выступали, сколько агрессии проявляли. У нас, армян, вообще есть проблема с выражением мнения – молчим, а если заговорим, норовим оскорбить. В нынешнем году, за исключением пары частных случаев, подобного не было. Выступления становятся более взвешенными, более корректными. Все больше студентов театроведческого факультета вовлекаются в процесс. Мы в свое время могли только мечтать о кафедре, с которой могли бы высказывать свою точку зрения. Конечно, после выступлений членов нашей комиссии, состоящей из известных деятелей театра и искусствоведов, студенты несколько зажаты, но другого пути нет. К тому же в этом году, как никогда раньше, увеличилось количество непрофессиональной публики, которой, оказывается, интересно не только послушать, но и высказаться. Так что качество разговоров заметно изменилось. Это во-первых. Во вторых, в этом году мы открыли для себя некую модель, которую собираемся развивать в дальнейшем. И поводом к этому послужили спектакли непрофессиональных трупп, которые работают при различных учебных заведениях. Это определенная форма организации не просто досуга, но культурного развития учеников и студентов, прекрасная возможность знакомства с настоящей литературой посредством игры. Подобная модель во многом заполнит тот культурный вакуум, о котором часто говорится. И потом есть же такое понятие – "терапия театра", когда человек через игру освобождается от своих проблем и комплексов. Мне кажется, что организация таких явлений в учебных заведениях приведет к уменьшению агрессии, накопившейся в обществе. И совершенно не обязательно, чтобы в дальнейшем эти люди становились актерами. Мы заполучим нормального, способного всерьез воспринимать театр зрителя.
— А что, сегодня так уж развита система драмкружков при школах или студенческих театров?
— Представь себе, в достаточной мере. Но все это мало организовано и нуждается в стратегическом подходе. Чтобы речь шла не о школьном вечере или мелодекламационном монтаже, а именно о конкретной пьесе, конкретной драматургии и чтобы люди относились к этому серьезнее. Скажем, если они будут знать, что на будущий год примут участие в республиканском фестивале, это подстегнет и организаторов, и учащихся. Все нужно свести к единой стратегии.
— Ваш фестиваль – это своеобразный мониторинг. Можно ли сегодня говорить о волне независимых негосударственных театров? Я не имею в виду антрепризу, когда люди одноразово создают себе возможность заработать.
— О волне говорить преждевременно, но меня радует, что количество независимых театров стало расти. Это означает, что, по крайней мере в столице, театральная жизнь входит в определенное русло. Ведь если рассчитывать только на господдержку, это значит: если ты и реализуешь то, что задумал, то очень поздно. Мне импонирует, что люди рассчитывают на самих себя. Вот у театра "Агора" уже есть свой репертуар. Много молодежных независимых трупп "Мим-студио", "Мигр", тот же театр при брюсовском институте. Это же здорово, кода студенты-лингвисты собираются, чтобы создать театр.
— В вашей программе много молодежных постановок. На какого рода драматургию больше тянет молодежь?
— Очень по-разному. И классика, и переложения прозы. И очень много адаптаций – чтобы произведение звучало современно. Это вызвало по ходу фестиваля много споров — имеет ли смысл подобное отношение к добротной литературе, тем более что качество адаптации слишком часто оставляет желать лучшего. Словом, опять убеждаешься, что у нас серьезные проблемы с национальной драматургией. Хотя, кажется, каждая запертая дверь и уехавшая из дома семья – темы пьес. Но нас почему-то тянет на глобальные проблемы. Драматургия – это противопоставление точек зрения посредством персонажей. Вот этому мы никак не научимся. В наших пьесах есть "высокая идея", разумеется, идея автора, и, как правило, вселенского масштаба. Эту идею персонажи и "обслуживают". Был разговор и о том, что сегодняшнее наше национальное самовосприятие не приемлет со сцены воплей и стенаний. Сегодняшняя среда нуждается в сильных людях, которые сами творят свою судьбу.
— В этом году вы охватили едва ли не все региональные театры. Сейчас выскажу крамольную мысль. Нет ли в таком тотальном приобщении снижения планки? Ведь не секрет, что часто эти постановки способны скорее отвратить от театра, чем привлечь к нему.
— Если эта проблема в региональных театрах существует — а она, бесспорно, существует, — огромная часть вины ложится на наши плечи. Скоро двадцать лет, как регионы оказались в изоляции, живут сами по себе, руководствуясь исключительно местечковыми вкусами. А они должны получать не только экономическую, но и культурную подпитку. У столицы и регионов должна быть общая "кровеносная система". Сегодня в нашей стране не существует единого культурного поля. Регионы можно и нужно, необходимо приобщать если не к международным культурным процессам, то хотя бы обеспечить их связь со столицей. И наш фестиваль прошел под девизом "Культурное единство – фестиваль-дискуссия". Конечно, часто то, что нам там приходится видеть, не выдерживает никаких художественных критериев. Но театры – единственные реально сохранившиеся в районах очаги культуры, ведь других действующих звеньев практически нет. И если в какой-то мере наладится их работа, мы решим не только творческие, но и социальные, и психологические вопросы. Ведь человеку очень важно чувствовать свою вовлеченность в какие-то общие, объединяющие процессы. Вот мы поездили по регионам и убедились, что там люди больше готовы слушать, воспринимать. Они скучают не просто по профессиональной оценке, а по элементарному общению. Мы ведь полностью оставили регионы на произвол судьбы, отрезанные от всего, замкнутые в себе. И откуда же там взяться качественным спектаклям? А театры в регионах могут играть очень важную роль. Не случайно же в европейских странах стремятся проводить фестивали подальше от мегаполисов, в провинции. Если эти театры обретут нормальную кондицию – даже в смысле здания, — люди будут знать, что есть место, где они могут нормально отдохнуть, отключиться от бытовых проблем, вовлечься в живое общение. На регионы просто необходимо обратить внимание. Лично я собираюсь представить Министерству конкретную программу. Уверен, что в этом случае изменится и художественный уровень. Если работающие там люди будут знать, что ученики сельских школ не единственная их аудитория. Что вот то-то не имеет отношения к искусству, а то-то – просто безвкусица. В региональных театрах проблема номер один – отсутствие режиссеров. И отправить туда выпускников нашего института просто невозможно.
— Советский механизм "не поедешь в район – не получишь диплома" не работает, а иного за столько лет выработать не смогли.
— Потому что реально у нас нет культурной политики в плане регионов. Одной-двумя акциями в год невозможно изменить культурную ситуацию в марзах. Необходим полноценный культурный процесс, а не только "доставка на места конечного культурного продукта". Необходимо создавать ту среду, которая исходя из своих потребностей формирует культурные ценности. Я говорю о макросистеме культуры. Человека нужно готовить к восприятию искусства – и тогда развивается само искусство. Это же двусторонний процесс.