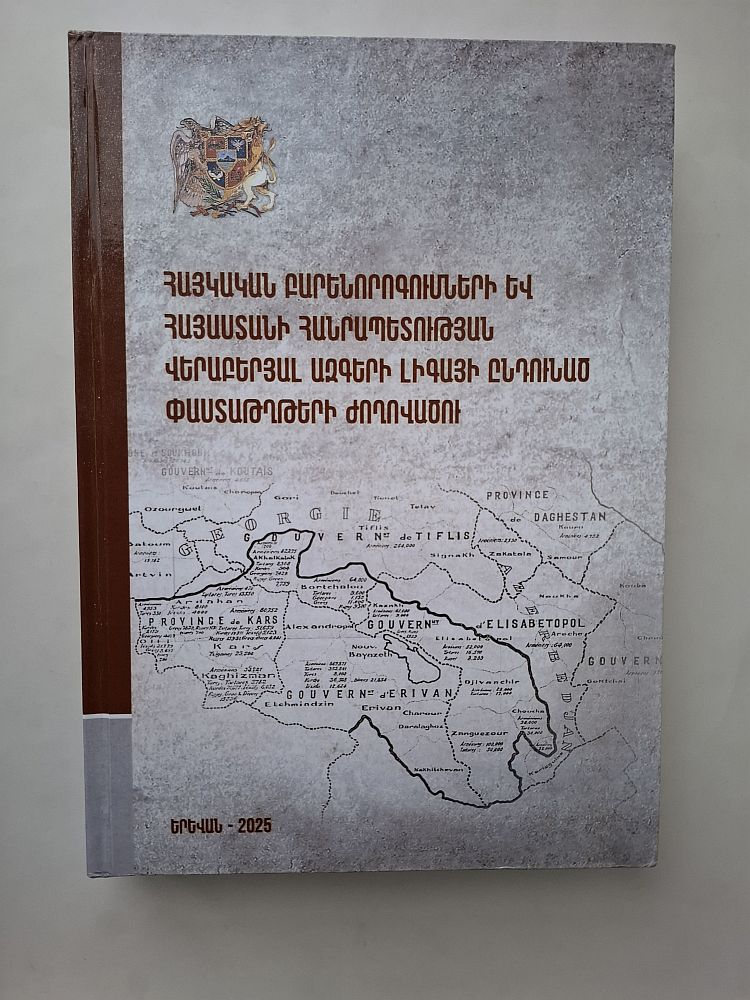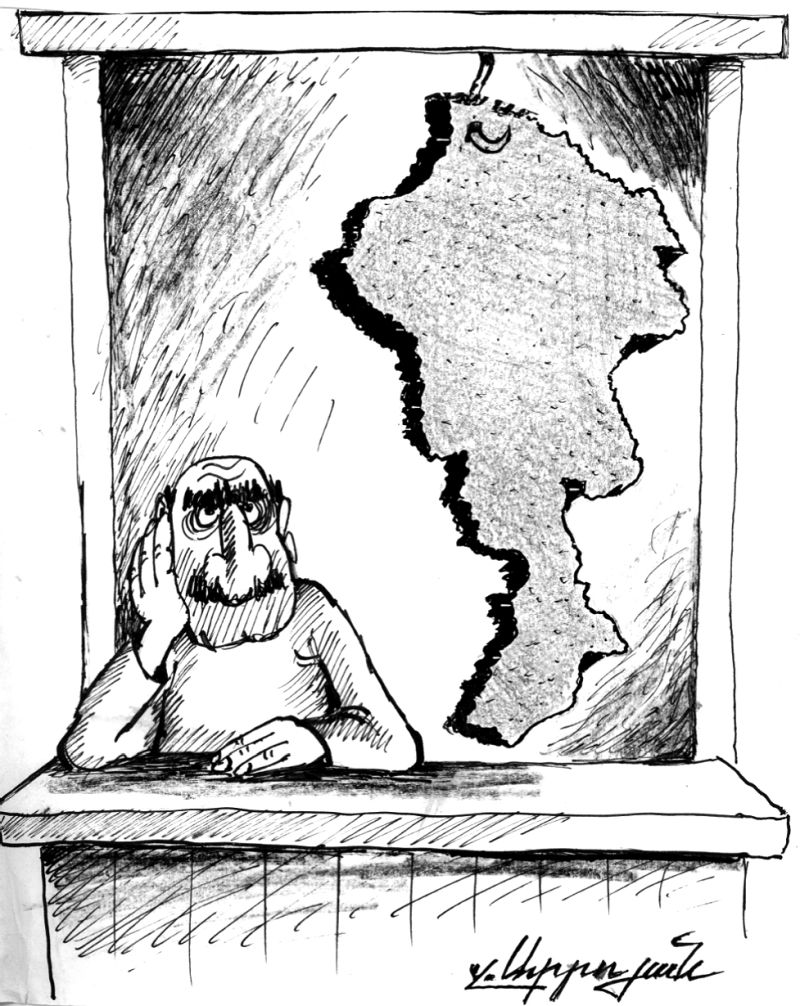Среди участников прошедшей в Ереване Международной научной конференции «Арам Хачатурян и современный мир», посвященной 110-летию композитора, была и заслуженный работник Высшей школы России, профессор кафедры музыкальной критики Санкт-Петербургской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, автор многочисленных книг, в том числе об Араме Хачатуряне, Эра Барутчева.
Родившись в Баку и с детства приобщившись к музыке, она закончила школу при консерватории, а продолжила учебу уже в Ереванской консерватории. Затем по совету своего педагога Георгия Григорьевича Тигранова оказалась в Ленинграде, продолжая обучаться в аспирантуре, где с 1957 года живет и работает, воспитав не одно поколение новых музыкантов, внося свой значимый вклад в развитие музыкальной культуры.
— Я СЧАСТЛИВА, ЧТО СНОВА В ЕРЕВАНЕ, — ГОВОРИТ ЭРА СУРЕНОВНА, — и сейчас нахожусь в Доме-музее Хачатуряна, потому что – так уж получилось – я присутствовала при организации музея. И очень часто вспоминаю его первого директора – Гоар Агасиевну Арутюнян, которая мне рассказывала, как она задумывала этот музей. Ее отличала особая любовь к своей работе, деловой азарт. Надеюсь, что нынешние молодые сотрудники достойно продолжают начатое дело. Во всяком случае сейчас в музее работают замечательные люди. Я имела возможность в этом убедиться и десять лет назад, и сейчас, чему я очень рада.
Однако мне кажется, что музыка Хачатуряна, к сожалению, звучит не так часто, как она того заслуживает. Вот, например, на одном из телеканалов была передача о предстоящей конференции, но я не услышала ни одной ноты Хачатуряна. А ведь без таких вершин, как Комитас и Хачатурян, не было бы современной музыкальной культуры в Армении. Поэтому надо всегда помнить о наших великих предках, о нашем наследии и быть достойным его.
— Вы были знакомы с Арамом Ильичом. Каким сохранился он в вашей памяти?
— Есть такое выражение: «Он очень любил жизнь». Именно так можно сказать про Арама Ильича. Он любил ее во всех проявлениях. Но прежде всего музыку, любил он и театр, и цирк. Нежно и трепетно относился к артистам. Помню, как-то мы с ним сидели рядом на концерте, я – девочкой такой важной, видите ли, мне не понравился исполнитель – как он сыграл. А Арам Ильич меня спрашивает: «Ты почему не аплодируешь?» Я честно призналась: «Потому что он мне не понравился». А он говорит: «Артисту надо аплодировать, его надо поддерживать, имей это в виду». С тех пор прошло очень много времени, и я своим студентам всегда повторяю эту фразу. Пожалуйста, такая мелочь, но как она характеризует человека. Конечно, это для меня стало уроком.
Хачатурян был человеком театра и не случайно саморежиссура была его спутницей. Ее образцы навсегда остались в моей памяти. Я не хотела об этом говорить, но он часто этим увлекался, и очень серьезно.
— Я знаю, что в Санкт-Петербургской консерватории вы основали музей ее истории.
— Когда возникла такая идея, тогдашний ректор – знаменитый пианист и педагог Павел Серебряков сказал мне: «Денег нет, сумеете сделать что-то без них – делайте». Я, конечно, сразу воспользовалась тем, что была знакома с потомками великих композиторов – горжусь , например, дружбой с внучками Римского-Корсакова, к которым я часто ходила в гости. Именно они и передали первые экспонаты для музея. И вот таким образом благодаря родственникам композиторов у нас начал формироваться фонд. А музей был торжественно открыт в 1969 году к 125-летию со дня рождения Римского-Корсакова, чье имя носит Санкт-Петербургская консерватория. В будущем году музею исполнится 45 лет. Из всех музеев, существовавших в консерватории, наш настоящий долгожитель.
Надо сказать, что в свое время в консерватории действовали два совершенно роскошных музея – Михаила Ивановича Глинки и Антона Григорьевича Рубинштейна, основанные еще в начале XX века. Еще тогда их родственники передали, как было официально зарегистрировано, «на «вечное хранение» очень много вещей, принадлежавших композиторам. Но от вечного хранения в начале 20-х годов, сами понимаете, ничего не осталось. И потому нам пришлось начинать все с чистого листа.
— А какие, к примеру, экспонаты хранятся в музее?
— Когда в 1958 году к нам приезжал Ван Клиберн, он приходил в консерваторию, где все его любили. Пианист подарил нам проигрыватель, у нас имеется также фотография, на которой он подписывает свою програмку. Дело в том, что Клиберн ведь учился у известной американской пианистки – русской эмигрантки Розины Левиной, а она была ученицей знаменитого музыканта – выпускника нашей консерватории Василия Сафонова, выдающегося пианиста и дирижера.
В музее хранятся также, как это ни покажется странным, оружие – автомат, врученный профессору консерватории и участнице битвы за Ленинград Ольге Андреевой, камешек «В память закладки здания Санкт-Петербургской консерватории», статуэтка Чайковского, который позировал Илье Гинзбургу.
Есть у нас и «Уголок Глазунова», где выставлены его диван, стол, стулья XIX века, рисунок Ильи Репина, переданный с дарственной надписью Глазунову, а также его карта звездного неба — ведь композитор увлекался астрономией.
— Эра Суреновна, расскажите, пожалуйста, о ваших корнях.
— Я ПРИВЕЗЛА В ЕРЕВАН УНИКАЛЬНУЮ КНИГУ,которая называется «Семья: узоры судьбы на путях истории». В ней около 450 страниц с документальными материалами, где я рассказываю о моем роде. Я ее презентую Дому-музею А. Хачатуряна.
Если говорить о моих родителях, то мама – Анна Черкезова закончила Художественную академию в Тифлисе, работала в декорационной мастерской вначале Тифлисского, а затем и Бакинского оперного театра. Именно она и приобщила меня к музыке, и не только к ней, но и к книгам, к чтению. Ее без книги не представляю, с ее голоса я слышу произведения Диккенса, Гоголя, Крылова…
Папа – выходец из Шуши — был гинекологом и заведовал отделением в Бакинской больнице. Был оклеветан и репрессирован. На войну пошел добровольцем, но попал в плен. И его фактически спас Константин Симонов, который обнаружил папу в концлагере «Майданек» в Польше. Позднее его реабилитировали.
Мой дядя Армен Константинович Барутчев был архитектором и 40 лет преподавал в Ленинградской академии художеств. По его проектам в этом городе построено немало зданий.
— Когда вы последний раз были в Ереване? Какие изменения бросились вам в глаза?
— Десять лет назад. Я приезжала на 100-летие со дня рождения Арама Ильича. А впечатления, к сожалению, не очень. Что-то рушат, что- то строят. То же самое в Санкт-Петербурге, в Кисловодске, где этим летом я отдыхала. Кругом высотки – гор уже не видно, и на многих многоэтажках написано: «продается…»
— Я СЧАСТЛИВА, ЧТО СНОВА В ЕРЕВАНЕ, — ГОВОРИТ ЭРА СУРЕНОВНА, — и сейчас нахожусь в Доме-музее Хачатуряна, потому что – так уж получилось – я присутствовала при организации музея. И очень часто вспоминаю его первого директора – Гоар Агасиевну Арутюнян, которая мне рассказывала, как она задумывала этот музей. Ее отличала особая любовь к своей работе, деловой азарт. Надеюсь, что нынешние молодые сотрудники достойно продолжают начатое дело. Во всяком случае сейчас в музее работают замечательные люди. Я имела возможность в этом убедиться и десять лет назад, и сейчас, чему я очень рада.
Однако мне кажется, что музыка Хачатуряна, к сожалению, звучит не так часто, как она того заслуживает. Вот, например, на одном из телеканалов была передача о предстоящей конференции, но я не услышала ни одной ноты Хачатуряна. А ведь без таких вершин, как Комитас и Хачатурян, не было бы современной музыкальной культуры в Армении. Поэтому надо всегда помнить о наших великих предках, о нашем наследии и быть достойным его.
— Вы были знакомы с Арамом Ильичом. Каким сохранился он в вашей памяти?
— Есть такое выражение: «Он очень любил жизнь». Именно так можно сказать про Арама Ильича. Он любил ее во всех проявлениях. Но прежде всего музыку, любил он и театр, и цирк. Нежно и трепетно относился к артистам. Помню, как-то мы с ним сидели рядом на концерте, я – девочкой такой важной, видите ли, мне не понравился исполнитель – как он сыграл. А Арам Ильич меня спрашивает: «Ты почему не аплодируешь?» Я честно призналась: «Потому что он мне не понравился». А он говорит: «Артисту надо аплодировать, его надо поддерживать, имей это в виду». С тех пор прошло очень много времени, и я своим студентам всегда повторяю эту фразу. Пожалуйста, такая мелочь, но как она характеризует человека. Конечно, это для меня стало уроком.
Хачатурян был человеком театра и не случайно саморежиссура была его спутницей. Ее образцы навсегда остались в моей памяти. Я не хотела об этом говорить, но он часто этим увлекался, и очень серьезно.
— Я знаю, что в Санкт-Петербургской консерватории вы основали музей ее истории.
— Когда возникла такая идея, тогдашний ректор – знаменитый пианист и педагог Павел Серебряков сказал мне: «Денег нет, сумеете сделать что-то без них – делайте». Я, конечно, сразу воспользовалась тем, что была знакома с потомками великих композиторов – горжусь , например, дружбой с внучками Римского-Корсакова, к которым я часто ходила в гости. Именно они и передали первые экспонаты для музея. И вот таким образом благодаря родственникам композиторов у нас начал формироваться фонд. А музей был торжественно открыт в 1969 году к 125-летию со дня рождения Римского-Корсакова, чье имя носит Санкт-Петербургская консерватория. В будущем году музею исполнится 45 лет. Из всех музеев, существовавших в консерватории, наш настоящий долгожитель.
Надо сказать, что в свое время в консерватории действовали два совершенно роскошных музея – Михаила Ивановича Глинки и Антона Григорьевича Рубинштейна, основанные еще в начале XX века. Еще тогда их родственники передали, как было официально зарегистрировано, «на «вечное хранение» очень много вещей, принадлежавших композиторам. Но от вечного хранения в начале 20-х годов, сами понимаете, ничего не осталось. И потому нам пришлось начинать все с чистого листа.
— А какие, к примеру, экспонаты хранятся в музее?
— Когда в 1958 году к нам приезжал Ван Клиберн, он приходил в консерваторию, где все его любили. Пианист подарил нам проигрыватель, у нас имеется также фотография, на которой он подписывает свою програмку. Дело в том, что Клиберн ведь учился у известной американской пианистки – русской эмигрантки Розины Левиной, а она была ученицей знаменитого музыканта – выпускника нашей консерватории Василия Сафонова, выдающегося пианиста и дирижера.
В музее хранятся также, как это ни покажется странным, оружие – автомат, врученный профессору консерватории и участнице битвы за Ленинград Ольге Андреевой, камешек «В память закладки здания Санкт-Петербургской консерватории», статуэтка Чайковского, который позировал Илье Гинзбургу.
Есть у нас и «Уголок Глазунова», где выставлены его диван, стол, стулья XIX века, рисунок Ильи Репина, переданный с дарственной надписью Глазунову, а также его карта звездного неба — ведь композитор увлекался астрономией.
— Эра Суреновна, расскажите, пожалуйста, о ваших корнях.
— Я ПРИВЕЗЛА В ЕРЕВАН УНИКАЛЬНУЮ КНИГУ,которая называется «Семья: узоры судьбы на путях истории». В ней около 450 страниц с документальными материалами, где я рассказываю о моем роде. Я ее презентую Дому-музею А. Хачатуряна.
Если говорить о моих родителях, то мама – Анна Черкезова закончила Художественную академию в Тифлисе, работала в декорационной мастерской вначале Тифлисского, а затем и Бакинского оперного театра. Именно она и приобщила меня к музыке, и не только к ней, но и к книгам, к чтению. Ее без книги не представляю, с ее голоса я слышу произведения Диккенса, Гоголя, Крылова…
Папа – выходец из Шуши — был гинекологом и заведовал отделением в Бакинской больнице. Был оклеветан и репрессирован. На войну пошел добровольцем, но попал в плен. И его фактически спас Константин Симонов, который обнаружил папу в концлагере «Майданек» в Польше. Позднее его реабилитировали.
Мой дядя Армен Константинович Барутчев был архитектором и 40 лет преподавал в Ленинградской академии художеств. По его проектам в этом городе построено немало зданий.
— Когда вы последний раз были в Ереване? Какие изменения бросились вам в глаза?
— Десять лет назад. Я приезжала на 100-летие со дня рождения Арама Ильича. А впечатления, к сожалению, не очень. Что-то рушат, что- то строят. То же самое в Санкт-Петербурге, в Кисловодске, где этим летом я отдыхала. Кругом высотки – гор уже не видно, и на многих многоэтажках написано: «продается…»