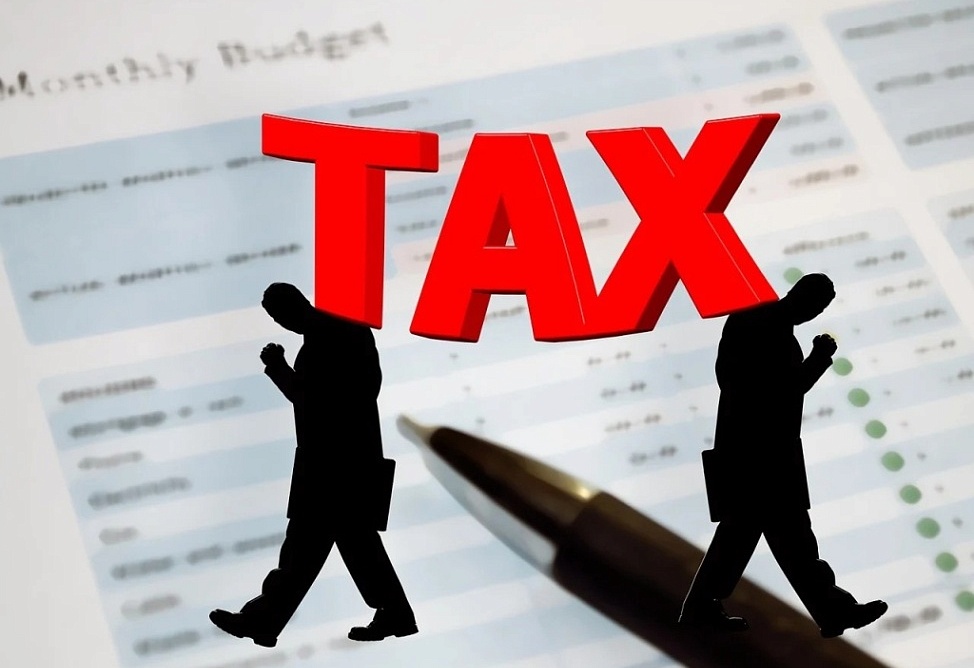Недавно вышли свежие данные по индексу потребительских цен (ИПЦ — он же инфляция) в Армении за 4 месяца текущего года. Кажется, страна попадает в дефляционную спираль, обусловленную падением платежеспособности населения, потребительского спроса, а также внешнеэкономическими факторами. Сразу заметим, что дефляция (она же — падение цен) если и хороша, то только в краткосрочном плане: в средне- и долгосрочной перспективе это явление чрезвычайно опасное, заводящее экономику, лишенную стимулов развития, в беспросветный тупик. Так что в конечном итоге дефляция неизбежно бьет и по рядовому потребителю.
Итак, ИПЦ в Январе-апреле с.г. К Январю-апрелю прошлого года составил 98,5%, то есть имела место дефляция на уровне 1,5%, причем наибольшее падение цен зарегистрировано в сфере продовольственных товаров — почти на 5%. На алкоголь и табак цены практически не изменились — 99,4%. За исключением января, когда по сравнению с предыдущим декабрем 2015-го в Армении была зафиксирована инфляция (102,2%), во все остальные три прошедших месяца (по отношению к предыдущему месяцу) мы имели дело с дефляцией: соответственно в феврале — 98,6%, а в марте и апреле — по 99,7%.
Не случайно, что запрограммированным целевым диапазоном в этом плане является вовсе не дефляция, а инфляция на уровне 4% плюс-минус 1,5%, то есть финансовые власти обязаны обеспечить в годовом разрезе рост цен как минимум на уровне 2,5% и в коридоре до 5,5%. Пока что это явно не удается, и не совсем понятно, на что рассчитывают в главном банке страны, не торопящемся круто смягчить свою денежно-кредитную политику, в результате чего экономику продолжают держать «на коротком поводке», не давая ей, так сказать, вздохнуть полной грудью.
Напомним, что ЦБ РА чрезвычайно робко понижает ставку рефинансирования. В последний раз это произошло в конце марта, когда учетная ставка была спущена на 0,25 процентных пункта и установлена на уровне 8,25%. И это при том, что, как указывалось выше, в стране месяцами фиксируется дефляция, с внешних рынков также идут дефляционные тенденции в сфере продовольственных и сырьевых товаров, и финансовые регуляторы многих стран — в частности, европейских и китайских — держат ключевые ставки на рекордно низких уровнях с целью подогнать инфляцию и экономическую активность в стране.
ТАК ЧЕМ ЖЕ БУДУТ РАЗГОНЯТЬ ИНФЛЯЦИЮ ФИНАНСОВЫЕ ВЛАСТИ? Скоро пойдет первый урожай, когда цены не разгонишь, и наоборот, дефляционные тенденции могут укрепиться еще больше. В летние месяцы ожидается также снижение тарифов на газ и электроэнергию, так что и это будет играть на падение цен. О восстановлении спроса на недвижимость и вовсе пока не идет и речи. Неужели вся надежда на повысившиеся с 1 мая акцизы? Об этом можно будет судить уже по июньской инфляции — не раньше. Ясно одно: до тех пор пока спрос остается вялым, цены, в том числе и производителей, не покажут устойчивого роста.
Правда, нынешний уровень ставки рефинансирования в Армении в армянском офисе Всемирного банка считают целесообразным. При этом, однако, глава офиса Лора Бейли одновременно сообщает и как бы намекает нашему Центробанку, что «в случае сохранения нынешнего уровня дефляции, возможно, этот показатель вновь будет понижен». То есть вопросы по рассматриваемой теме имеются и у ВБ.
 Не меньшим отрицательным эффектом воздействия внешних шоков в сложившейся ситуации является повышение волатильности валютных курсов. Понижательная динамика мировых цен на сырьевые товары и продукцию сельского хозяйства обусловила давление на так называемые сырьевые валюты, в число которых входит и российский рубль. Снижение цен на углеводородное сырье идет рука об руку с укреплением доллара США, толкая тем самым курсы «сырьевых валют» вниз.
Не меньшим отрицательным эффектом воздействия внешних шоков в сложившейся ситуации является повышение волатильности валютных курсов. Понижательная динамика мировых цен на сырьевые товары и продукцию сельского хозяйства обусловила давление на так называемые сырьевые валюты, в число которых входит и российский рубль. Снижение цен на углеводородное сырье идет рука об руку с укреплением доллара США, толкая тем самым курсы «сырьевых валют» вниз.
В странах с режимом плавающего валютного курса масштабная девальвация «сырьевой валюты» в 2014-2015 гг. оказалась весьма значительной: канадский доллар потерял 30,4%, норвежская крона — 45,7%. Девальвация российского рубля оказалась гораздо масштабнее — 122,2%, что объясняется влиянием не только снижения мировых цен на нефть, но и финансовыми санкциями.
Неоднородна динамика курса российского рубля, устанавливаемого ежедневно Банком России к национальным валютам различных государств. Так, если брать за точку отсчета начало 2013 года и рассмотреть показатели курсов российского рубля к весне 2016 года (на 01.04.2016), то изменение курсов выглядит следующим образом. К большинству национальных валют рубль ослабел в следующих размерах: к азербайджанскому манату — на 13,6%, армянскому драму — на 87,3%, белорусскому рублю — на 7,3%, венгерскому форинту — на 77,7%, киргизскому сому — на 47,3%, молдавскому лею — на 38,3%, польскому злотому — на 82,8%, таджикскому сомони — на 35,3%, узбекскому суму — на 55,6%. К украинской гривне, напротив, укрепление рубля составило 31,2%. А динамика рубля к казахстанскому тенге была разнонаправленной, и рубль колебался в ту или иную сторону.
В УСЛОВИЯХ, КОГДА ОБЕСЦЕНЕНИЕ РУБЛЯ К НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ составило значительную величину, армянские экспортеры начали терять видение перспективы работы на российском рынке. Резкая же девальвация драма, которая способна вновь открыть эту перспективу, несет в себе значительные макроэкономические риски. Вот почему финансовые власти страны воздерживаются искусственно ослаблять драм, и их, повторимся, понять можно.
Как бы то ни было, перспективы развития российской экономики, от которой во многом зависит самочувствие и армянской экономики, в текущем году и в краткосрочной перспективе остаются неопределенными. В рамках сложившейся в России экономической модели многое будет зависеть от колебания мировых цен на сырьевых рынках, а также от сохранения режима санкций и контрсанкций.
P.S. Когда материал уже был готов к печати, стало известно, что совет ЦБ РА на своем заседании 17 мая принял решение понизить ставку рефинансирования сразу на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 7,75%. Как говорится, и то хлеб…