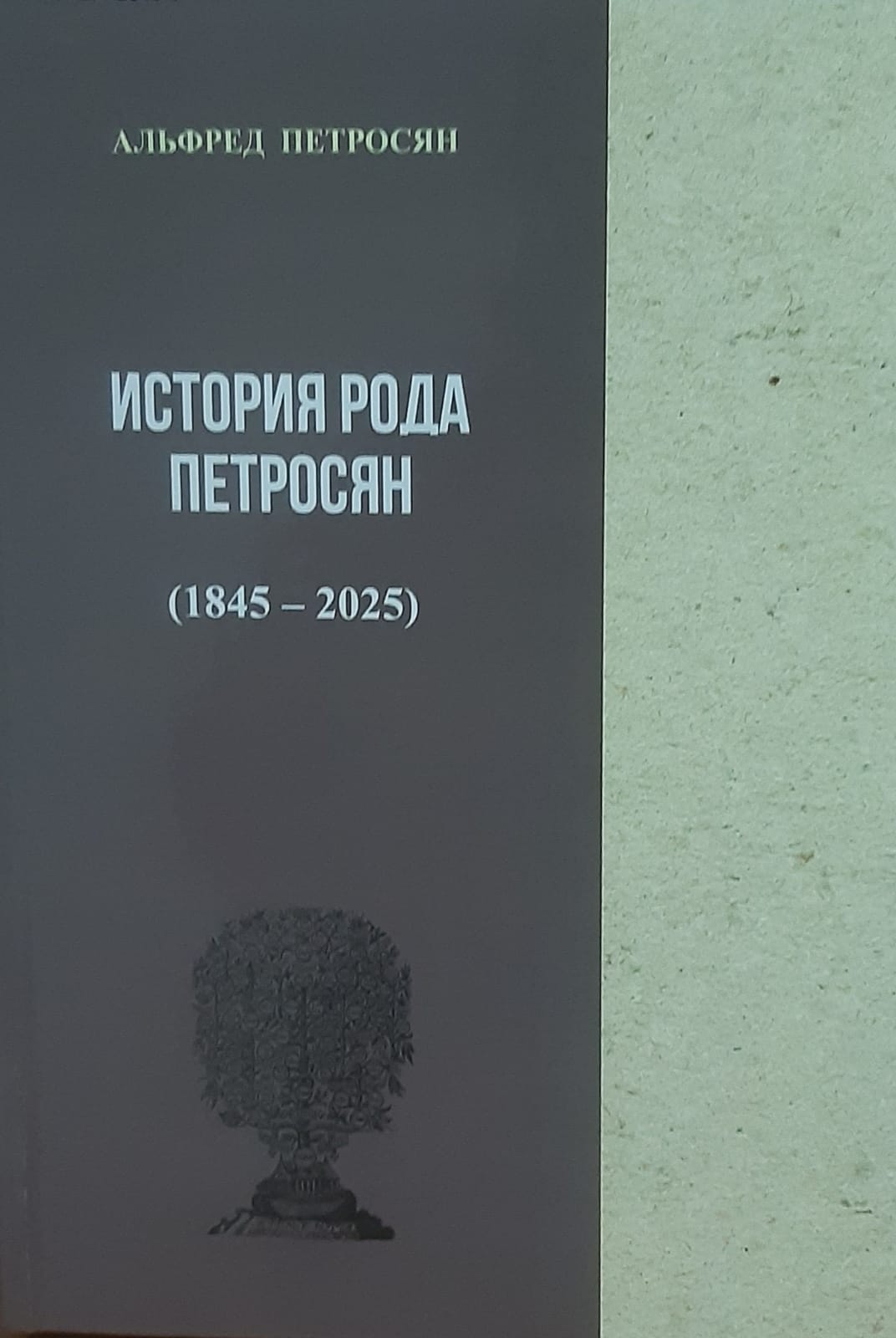Если спросить у образованного русского, кто первая в мире женщина-посол, он не без гордости назовет имя Александры Коллонтай, которая с 1923 года стала полномочным представителем РСФСР (позже и СССР) в Норвегии. Но это расхожее мнение — не самое верное отражение исторических реалий. Диана Абгар в июле 1920 года была назначена дипломатическим представителем и генеральным консулом Армянской Республики — признанного Лигой Наций международного субъекта – в Японии. Именно она и стала первой в мире женщиной-послом.
ВСПОМНИЛИ МЫ ОБ ЭТОМ НЕ РАДИ КВАСНОГО БАХВАЛЬСТВА. Просто если представитель большой державы (вне зависимости — России ли, Великобритании, США и т.д.) по известным причинам может и не знать деталей из истории малых народов, то сами малые народы, особенно политические элиты последних, должны разбираться хотя бы в судьбоносных событиях собственного прошлого.
Министр образования Армен Ашотян, очевидно, осведомлен о Диане Абгар. Однако его ремарка от 22 мая и особенно ее акценты вынуждают нас вновь обратиться к теме, которую мы неоднократно поднимали и которая все еще злободневна. И уж, конечно, эта тема более важна, чем обусловленный стечением обстоятельств вопрос посольского первенства. Министр дал понять дашнакцаканам, что правящая Республиканская партия, в отличие от АРФД, знает, как сохранять страну, заметив, что «уроки из истории Первой Республики нами извлечены».
Но вопрос в том, что падение Первой Республики – это не одно трибунное предложение, а переплетение целого ряда сложнейших и взаимосвязанных военно-политических и идеологических факторов, обусловленных преимущественно программой по экспорту пролетарской революции, ключевой частью которой (особенно после краха в Европе Баварской и Венгерской советских республик) стал проект Красный Восток по раздуванию костра революции в мусульманских странах. Есть и много других сопутствующих нюансов.
Мы уже писали о том, что за три четверти прошлого столетия на части Восточной Армении возникли, сменяя друг друга, три республики. Власть каждой последующей республики, исходя из сиюминутных идеологических и политических соображений, пыталась опорочить, исказить, в лучшем случае — предать забвению общее национальное прошлое. В этом, собственно, и следует искать истоки многих наших бед. Базирующееся на измышлениях официальное отношение Третьей Республики ко Второй стало зеркальным отражением соответствующих подходов Второй Республики к Первой. С начала 90-х «врагами» стали официально называться уже не только дашнакцаканы, но и коммунисты.
ЗЛО АГРЕССИВНО-НИГИЛИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ ПРОШЛОМУ не только в том, что с каждой новой республикой нарастало идеологическое противостояние в армянском обществе — возможно, это в определенной степени историческая неизбежность. Но подобное противостояние не позволяет трезво и объективно осознать опыт собственной истории, извлечь из нее необходимые уроки, оценить то лучшее, к чему стремились и что успели сделать наши предшественники, и не повторять их трагических ошибок.
Нынешнее поколение граждан РА и НКР должно открыть для себя Первую Республику. Не менее важно сделать это и отечественным политикам, и государственным мужам. Ведь в общественном сознании все еще довлеет сфабрикованное официальной советской историографией и «обогащенное» тезисами АОД вульгаризированное восприятие Первой. Причем ложь присутствует во всех без исключения сферах. Примеров тому предостаточно.
Так, в любом пособии по новой армянской архитектуре все еще читаем: «После установления советской власти в Армении Александр Таманян в 1923 году переехал в Ереван и приступил к работе над генпланом столицы, которую завершил через год». Между тем это явная советская пропаганда. Еще в мае 1920 года при Министерстве попечения Первой Республики было учреждено Управление главного архитектора под руководством именно Александра Таманяна, который тогда-то и начал работу над новым генеральным планом столицы. Аналогичных моментов, причем во всех без исключения сферах, множество.
То же самое можно сказать об отношении к Армянской ССР. О беспрецедентных достижениях нашего народа в советские десятилетия написаны тома. Однако обратим внимание на главное, уже без налета социалистической пропаганды: именно в период существования Советской Армении весь спектр национальной культуры — музыка, литература, живопись, наука и пр. — впервые за многие века вернулся на родину. Именно Армянская ССР стала центром стабильной национальной жизни, поддержания и воспроизводства этнокультурного иммунитета. В административных границах СССР, и в первую очередь Советской Армении, в пределах ее интеллектуальной мысли по-новому стала складываться и наша историческая память.
Игнорировать эти реалии также нельзя. В противном случае, особенно на фоне дальнейшего усугубления классовых и идеологических противоречий и роста внутриполитической напряженности, мы рискуем спровоцировать раскол, которого независимая Армения еще не знала.
По какому-то злому стечению обстоятельств, но вышло так, что армянский политический календарь (а именно президентские выборы в РА) каждый раз препятствует национальному сплочению именно в февральские дни сумгаитской резни. Естественно, то же самое касается и возможности отметить дату начала Карабахского движения. Поствыборные потрясения (сейчас мы даже не рассматриваем вопроса их – как нам представляется — исторической неизбежности) каждый раз отодвигают эти события на второй план. Причем здесь мы имеем в виду не столько даже частоту упоминаний о них, сколько подчиненность Карабахского движения текущим внутриполитическим страстям.
НАПРИМЕР, ТЕКСТ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПРОТЕСТУЮЩИМИ СТУДЕНТАМИ ЗАЯВЛЕНИЯ вновь свидетельствует о том, что некоторые важные страницы отечественной истории преподносятся у нас искаженно, в результате чего формируется искаженное общественное мнение по отдельному вопросу. Причем сами студенты в этом не виноваты: они волей-неволей стали носителями множества ложных идеологических клише, которые сложились в промежутке более чем 20-летнего периода новой армянской независимости. Сам факт нахождения в плену унаследованных стереотипов не позволяет им грамотно ориентироваться в исторических событиях, активным участником которых они призваны быть. Мировая хроника последних веков свидетельствует о том, что именно студенчество – наиболее передовая часть общества, соответственно оно должно лучше других уметь правильно и четко расставлять акценты в своих заявлениях (в частности) и разбирать нюансы.
В частности, в распространенном 25 февраля студентами заявлении красной нитью проходит мысль о том, что Движение 1988 года являлось движением за независимость: «В 1988 году на Театральной площади началось движение во имя независимости, и мы сегодня на той же площади начали молодежное восстание во имя свободной жизни и существования в нашей свободной и независимой стране <…> Наши родители пошли по этому пути, а сегодня достигнутая ими независимость в опасности».
Это принципиально неверное суждение противоречит самой философии традиционных армянских ожиданий и устремлений. В отличие от прибалтийских советских республик и Грузинской ССР, которые не имели серьезных этнотерриториальных проблем с соседями и действительно добивались (на рубеже 1980–1990гг.) политической независимости (именно в рамках своих республиканских границ!), общественность Армянской ССР в силу известных особенностей национальной истории объективно не могла позволить себе такого: это было бы предательством в отношении обживающих исторический Арцах соотечественников, которые, вопреки последовательным усилиям азербайджанских властей по окончательному вытеснению коренного населения из области, тем не менее сумели не только отстоять право жить на родной земле, но и сохранить стремление к воссоединению с Армянской ССР.
В 1988 ГОДУ НАЧАЛОСЬ НЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ (как об этом говорится в заявлении), а именно Карабахское движение, провозглашенной целью которого являлось воссоединение Армянской ССР и НКАО в рамках Советского Союза. Другой возможности «собирать камни» у армян не существовало. Именно по этой главной причине важнейший правовой акт, принятый в тот период, не имел отношения к независимости (1 декабря 1989 года ВС Армянской ССР принял решение «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»).
Более того, нынешняя армянская независимость, о которой тоже говорится в заявлении, несколько отличается от той Армении, которую представляла общественно-политическая тенденция 1988-1990 годов – а именно: в состав Армянской ССР (сокращенно – Армения) входила и НКАО.
Принятая 23 августа 1990 года Декларация о независимости Армении четко констатирует: «Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения, имея целью создание демократического, правового общества, провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности: Армянская ССР переименовывается в Республику Армения, сокращенно – Армения».
Нынешняя же Республика Армения – это несколько другое политическое образование, которое в силу тех или иных причин отказалось от философии 1988-1990 гг. Оно получило суверенитет сверху, из Москвы, и провело «отдельный референдум» в сентябре 1991 года, сразу после подавления путча в Москве. Собственно, с этого времени в нашем политическом (в том числе официальном) лексиконе появилось позорное подразделение на «Армению и Арцах».
НАПРИМЕР, ТЕКСТ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПРОТЕСТУЮЩИМИ СТУДЕНТАМИ ЗАЯВЛЕНИЯ вновь свидетельствует о том, что некоторые важные страницы отечественной истории преподносятся у нас искаженно, в результате чего формируется искаженное общественное мнение по отдельному вопросу. Причем сами студенты в этом не виноваты: они волей-неволей стали носителями множества ложных идеологических клише, которые сложились в промежутке более чем 20-летнего периода новой армянской независимости. Сам факт нахождения в плену унаследованных стереотипов не позволяет им грамотно ориентироваться в исторических событиях, активным участником которых они призваны быть. Мировая хроника последних веков свидетельствует о том, что именно студенчество – наиболее передовая часть общества, соответственно оно должно лучше других уметь правильно и четко расставлять акценты в своих заявлениях (в частности) и разбирать нюансы.
В частности, в распространенном 25 февраля студентами заявлении красной нитью проходит мысль о том, что Движение 1988 года являлось движением за независимость: «В 1988 году на Театральной площади началось движение во имя независимости, и мы сегодня на той же площади начали молодежное восстание во имя свободной жизни и существования в нашей свободной и независимой стране <…> Наши родители пошли по этому пути, а сегодня достигнутая ими независимость в опасности».
Это принципиально неверное суждение противоречит самой философии традиционных армянских ожиданий и устремлений. В отличие от прибалтийских советских республик и Грузинской ССР, которые не имели серьезных этнотерриториальных проблем с соседями и действительно добивались (на рубеже 1980–1990гг.) политической независимости (именно в рамках своих республиканских границ!), общественность Армянской ССР в силу известных особенностей национальной истории объективно не могла позволить себе такого: это было бы предательством в отношении обживающих исторический Арцах соотечественников, которые, вопреки последовательным усилиям азербайджанских властей по окончательному вытеснению коренного населения из области, тем не менее сумели не только отстоять право жить на родной земле, но и сохранить стремление к воссоединению с Армянской ССР.
В 1988 ГОДУ НАЧАЛОСЬ НЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ (как об этом говорится в заявлении), а именно Карабахское движение, провозглашенной целью которого являлось воссоединение Армянской ССР и НКАО в рамках Советского Союза. Другой возможности «собирать камни» у армян не существовало. Именно по этой главной причине важнейший правовой акт, принятый в тот период, не имел отношения к независимости (1 декабря 1989 года ВС Армянской ССР принял решение «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»).
Более того, нынешняя армянская независимость, о которой тоже говорится в заявлении, несколько отличается от той Армении, которую представляла общественно-политическая тенденция 1988-1990 годов – а именно: в состав Армянской ССР (сокращенно – Армения) входила и НКАО.
Принятая 23 августа 1990 года Декларация о независимости Армении четко констатирует: «Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения, имея целью создание демократического, правового общества, провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности: Армянская ССР переименовывается в Республику Армения, сокращенно – Армения».
Нынешняя же Республика Армения – это несколько другое политическое образование, которое в силу тех или иных причин отказалось от философии 1988-1990 гг. Оно получило суверенитет сверху, из Москвы, и провело «отдельный референдум» в сентябре 1991 года, сразу после подавления путча в Москве. Собственно, с этого времени в нашем политическом (в том числе официальном) лексиконе появилось позорное подразделение на «Армению и Арцах».