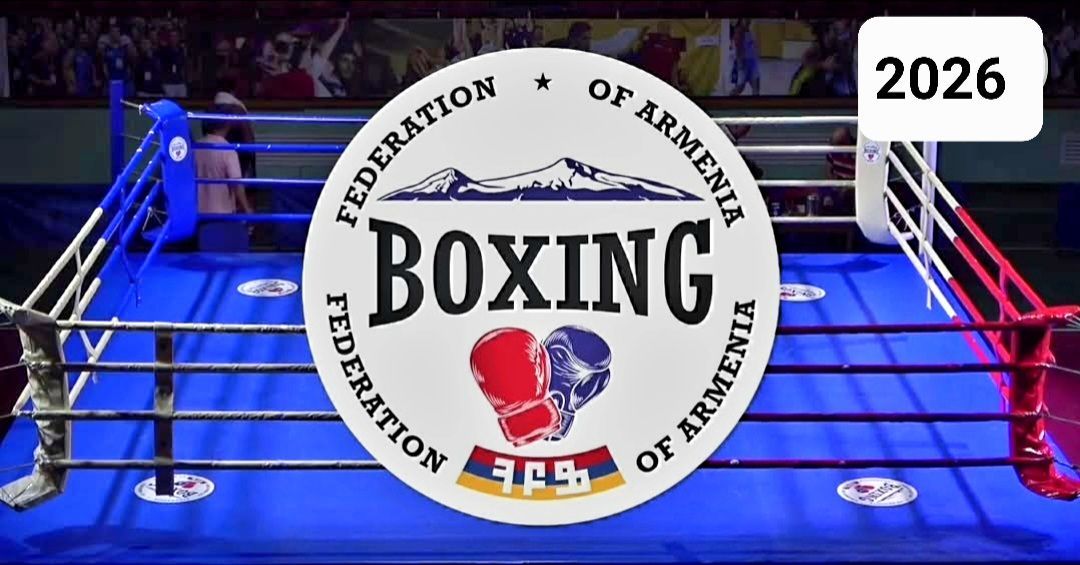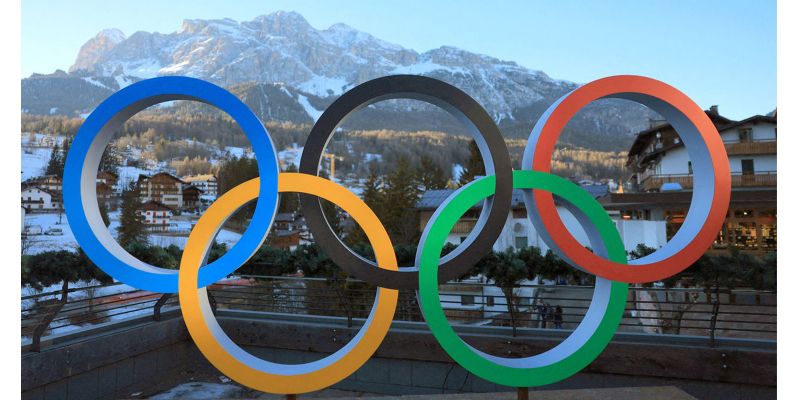В жизни, как в театре, есть главные исполнители и другие. Вот этих других считают за Никто: их игнорируют, не замечают, но если Никто исчезнет, то исполнитель главной роли сам превратится в Ничто. Как тут не вспомнить "Попрыгунью" Чехова? Именно благодаря дымовым земля вертится и позволяет другим вертеться, чувствуя себя "величиной".
Я — чайка. Нет, я — чайка
Существует досужее мнение о том, что в моноспектакле актер предстает перед публикой в крупном плане. Позвольте, крупный план даже в переносном смысле не имеет отношения к театру. Понятно, что имеется в виду то, что актеру негде скрыться и… сможет он заполнить сцену или нет, а такое под силу только крупному актеру.
Обычно на моноспектаклях актеры предпочитают маленькие залы и чтобы сцена была неотделима от зала, чтобы таким образом иметь в партнерах самих зрителей. Крупному же актеру, наоборот, нужно расстояние между сценой и залом. На своем веку я повидала актеров, которые могли заполнить зал – Мгера Мкртчяна и Хорена Абрамяна, да еще Соса Саркисяна — в жизни, где бы он ни находился.
"В театре я люблю расстояние, которое отделяет нас от зрителя",- говорит актриса театра и кино Ада Роговцева. А Вия Артмане как-то сказала: "Простите меня за то, что выбрали меня". Ибо каждому хочется побывать в главной роли. Профессиональная амбициозность актера с великолепной беспощадностью раскрылась в моноспектакле А.Казанчяна "Я — чайка", т.е. актриса — это я, а не Заречная. В пьесе "Чайка", по выражению самого Чехова, "пять пудов" любви: учитель Медведенко любит Машу, Маша — Треплева, Треплев — Нину, Нина – Тригорина… Смех да и только — ни одна любовь не взаимна, может, потому Чехов назвал пьесу комедией? Несмотря на суицид. И вот в моноспектакле Казанчяна мы погружаемся в постсуицидальную атмосферу. Жизнь после смерти. Жутко должно быть. Мать потеряла сына. Но ничего этого нет. Есть только одна любовь, доведенная до болезненного состояния. Эта болезнь — театромания, любовь к сцене, которая затмила всех и вся. Смерть может быть только на сцене, куда будут сыпаться цветы. И будут греметь аплодисменты.
В прошлом году на девятый фестиваль "Арммоно" прибыл Геннадий Хазанов, и, когда зашел разговор об актерской профессии, он признался, что у него произошла серьезная переоценка ценностей: "Актеры не отдают себе отчета, что они ничем не лучше хирурга, который спасает жизнь человеку". И добавил, что актерская профессия — это заболевание, патологическое отклонение от нормы: "Что происходит с женщиной, когда она взбирается на Олимп? Груз, который несет на себе актер, — это тяжелейший сгусток амбиций". Итак, все хотят быть в главной роли, а для этого нужны актеры на вторых ролях, но амбиции и у тех и у других одинаковые. Эта сложная тема на девятом "Арммоно" легла в основу двух моноспектаклей.
Никто и Ничто
Нарек Нерсесян в моноигре "Люсьен Люк’’ передал муки аккомпаниатора, разделявшего с певицей страх перед концертом, но не аплодисменты и гонорар (в жизни я знаю замечательного аккомпаниатора, который так разочарован своей незаметной ролью, что вдохновляется, только аккомпанируя бездарному певцу).
Вслед за Нареком в той же роли мы увидели Ирину Евдокимову в моноспектакле "Никто". Она сыграла аккомпаниаторшу, которая лишена каких-либо чувств, поскольку сопровождала певицу и именно последней доставались любовь, Париж… Из всех чувств Никто доступна лишь зависть, а этого чувства оказалось недостаточно, чтобы отреагировать на смерть матери. В основе "Никто" – повесть Нины Берберовой "Аккомпаниаторша". Написав эту повесть, автор поправила свое материальное положение, переиздавая ее множество раз. Произведение ей так удалось, потому что эмигрантке и жене при муже Ходасевиче близко было ощущение Никто, однако есть разница между Никто и Ничто. Можно быть известным и занимать высокое положение в обществе, в то же самое время быть ничтожеством (слово это происходит именно от "ничто"), и можно быть непризнанным талантом, но от "никто" никак не образуется "никтожество".
Что касается Ирины, исполнившей аккомпаниаторшу Никто, можно сказать, что она представляет собой тип актрисы, воплощающей не любовь Аркадиной к сцене ("Я — чайка"), а любовь Нины Заречной к труду на сцене ("Чайка").
Хотелось бы отметить общий недостаток большинства местных участников фестиваля. Они все какие-то скованные, нецелованные. Что я имею в виду? В разных языках по-разному объясняют слово "поцелуй". В армянском языке оно означает попробовать аромат или обменяться ароматами, дыханием, сущностью наконец. В китайском языке вообще нет такого слова. Мне нравится русское значение этого слова, которое, наверное, имеет тот же смысл, что и в армянском, но как следствие. Почему надо обмениваться дыханием? Буквально — чтобы стать целым! Вспомним "Повесть о Сонечке" Цветаевой: "Не поцелуй я его, я бы уже никогда не посмела играть Джульетту". Вот.
Трудно, очень трудно играть в моноспектакле. Времена крупных актеров прошли, потому что они воплощали не просто самих себя, а несли на плечах своих достижения театра, имеющего вековые традиции. И низкий поклон всем тем, кто сегодня решается на профессиональный подвиг — сыграть главную, но единственную роль без участия второстепенных персонажей.
Таланты и поклонники
Жанр моноспектакля является в какой-то мере панацеей от болезни под названием "актерство".
Часто не видишь ничего, кроме амбиций, поэтому сегодня, говоря "искусство требует жертв", имеешь в виду не только и не столько творцов и исполнителей, сколько самого зрителя. Только сверхтерпеливый зритель, выдержав ряд посредственных моноявлений, вознаграждается иногда вспышками удивительных откровений.
За 9 лет существования "Арммоно" особенно запомнилась Анна Скубик из Польши, актриса и кукловод, чья кукла воплощала саму Марлен Дитрих, которой удалось испытать великие радости профессии актера. Жаль только, что радости эти остались в прошлом и от посторонних глаз пришлось утаивать дожившую до глубокой старости Марлен.