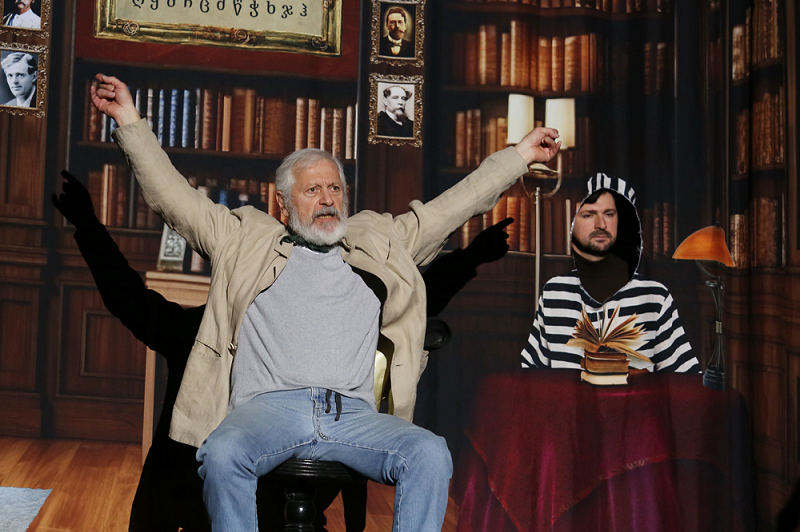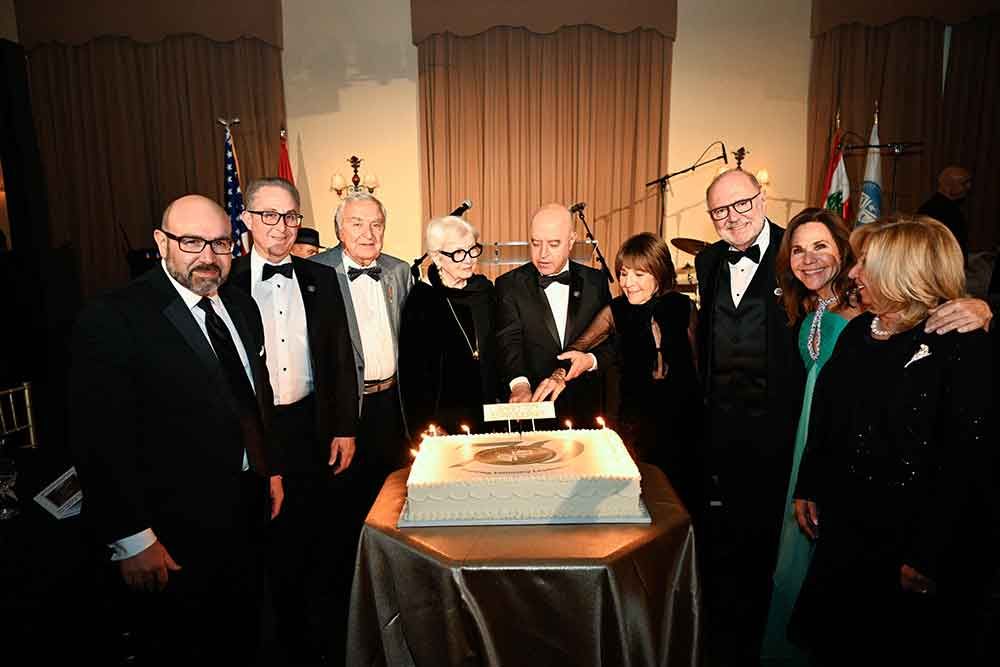Музыка Малера в Большом зале филармонии им. А.Хачатуряна всегда находит путь к сердцам слушателей. Уже сама программа — необыкновенная и не заигранная — не оставляла сомнений: концерт должен быть интересным. В афише значилось одно из масштабных сочинений — «Песнь о земле», ставшее трагической исповедью и занявшее совершенно особое место в творчестве выдающегося австрийского композитора и дирижера.
ЭТО ВОКАЛЬНО-СИМФОНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, КАЖДЫЙ ЗВУКОВОЙ миг которого насыщен внутренним напряжением, в исполнении Национального филармонического оркестра под управлением Эдуарда Топчяна и солистов — лауреатов международных конкурсов меццо-сопрано Олеси Петровой и тенора Липарита Аветисяна прозвучало во всем гигантском масштабе замысла композитора, покоряя не только силой духовной мощи, но и непосредственно музыкальной красотой.
 В основу сочинения легли вольные переводы немецким поэтом Гансом Бетче стихотворений древних китайских поэтов из сборника «Китайская флейта». Обратившись к, казалось бы, экзотическим текстам, Малер создал глубоко современное произведение, одну из выразительнейших в мире партитур. Исследователи творчества композитора по-разному оценивают жанр сочинения. Некоторые считают его циклом оркестровых песен, другие — неким промежуточным жанром. Но сам композитор определил «Песнь о Земле» как симфонию в песнях и, по свидетельству знаменитого дирижера Бруно Вальтера, лишь суеверный страх перед цифрой «девять», ставшей роковой для Бетховена и Брукнера, помешал дать ей девятый номер.
В основу сочинения легли вольные переводы немецким поэтом Гансом Бетче стихотворений древних китайских поэтов из сборника «Китайская флейта». Обратившись к, казалось бы, экзотическим текстам, Малер создал глубоко современное произведение, одну из выразительнейших в мире партитур. Исследователи творчества композитора по-разному оценивают жанр сочинения. Некоторые считают его циклом оркестровых песен, другие — неким промежуточным жанром. Но сам композитор определил «Песнь о Земле» как симфонию в песнях и, по свидетельству знаменитого дирижера Бруно Вальтера, лишь суеверный страх перед цифрой «девять», ставшей роковой для Бетховена и Брукнера, помешал дать ей девятый номер.
«Судьба подарила мне прекрасное время: по-моему, это самое личное из всего, что я до сих пор написал», — писал Малер своему другу Бруно Вальтеру.
О том, что «Песнь о Земле» — именно симфония, свидетельствует проблематика сочинения, тесно связанная с предшествующим симфоническим творчеством Малера. Только вопросы, ранее волновавшие композитора в философском плане — жизни и смерти, смысла бытия, — теперь стали страшнее, неотвратимо актуальными для него самого.
«Песнь о Земле» была исполнена оркестром под управлением Топчяна с подкупающей простотой, зрело. В интерпретации оркестра и его дирижера она была озарена особым сдержанным светом, поражая сыгранностью и отчетливостью деталей, особенностью малеровского звучания, ясностью общей концепции. «Песнь о Земле» заставила вновь серьезно задуматься о том, сколь много требуют вокально-симфонические сочинения Малера от певца, прежде всего непременной чистоты тембра, подвижности и гибкости голоса.
ЭТИ КАЧЕСТВА В ПОЛНОЙ МЕРЕ СВОЙСТВЕННЫ ОЛЕСЕ ПЕТРОВОЙ. При всем глубочайшем лиризме сольных вокальных высказываний, при всей необъятности переживания, открытой эмоциональности и свободе вокальное мышление Малера имеет классически строгую основу. Однако ее легко утерять, упустить, безоглядно отдавшись чувству или, к примеру, не совсем точно избрав красочно-динамический ракурс интерпретации. К чести певицы, она великолепно справилась со своей задачей: у нее красивый голос, ей не откажешь в высоком вокальном мастерстве. Мягкий, «округлый» тембр голоса, стремление к выразительной фразировке, к гармоничности звучания и утонченным нюансам вполне отвечают строю малеровской музыки. С каждой песней певица словно поднималась на ступеньку выше: иногда в созерцательной стройности и высокой духовности пения Петровой будто открывалось взору пространство собора с устремленными ввысь колоннами. Даже в самые драматичные моменты певица не прибегала к эффектности, избегала контрастов и вместе с тем действительно владела огромным пространством.
К сожалению, в этот вечер из-за болезни не в полную меру своего дарования проявил себя прекрасный тенор Липарит Аветисян. Это обстоятельство немного отдалило его от собственно малеровского стиля. Предупрежденный в самом начале зал с пониманием отнесся к состоянию любимого певца. Ничего не поделаешь: ничто человеческое не чуждо даже «звездам».
Но зато оркестр с молодым азартом преодолевал все преграды; музыканты сумели выстроить в единое целое сложный звуковой мир грандиозного творения. Прощание с жизнью, тема прощания, пронизывая многие малеровские адажио, здесь слышна, быть может, наиболее пронзительно. Топчян и оркестр достигли здесь редкой силы воздействия.
Особенно пронзительным был финал. Музыка оставалась гибкой и текучей, приобретала неожиданно мощные черты, оседала в нашем сознании роковой истиной, символом конца. И, когда музыка истаяла в той тишине, из которой она родилась и перед нами прошла жизнь и смерть, наступила другая тишина. Руки дирижера медленно опустились. Зал взорвался аплодисментами…