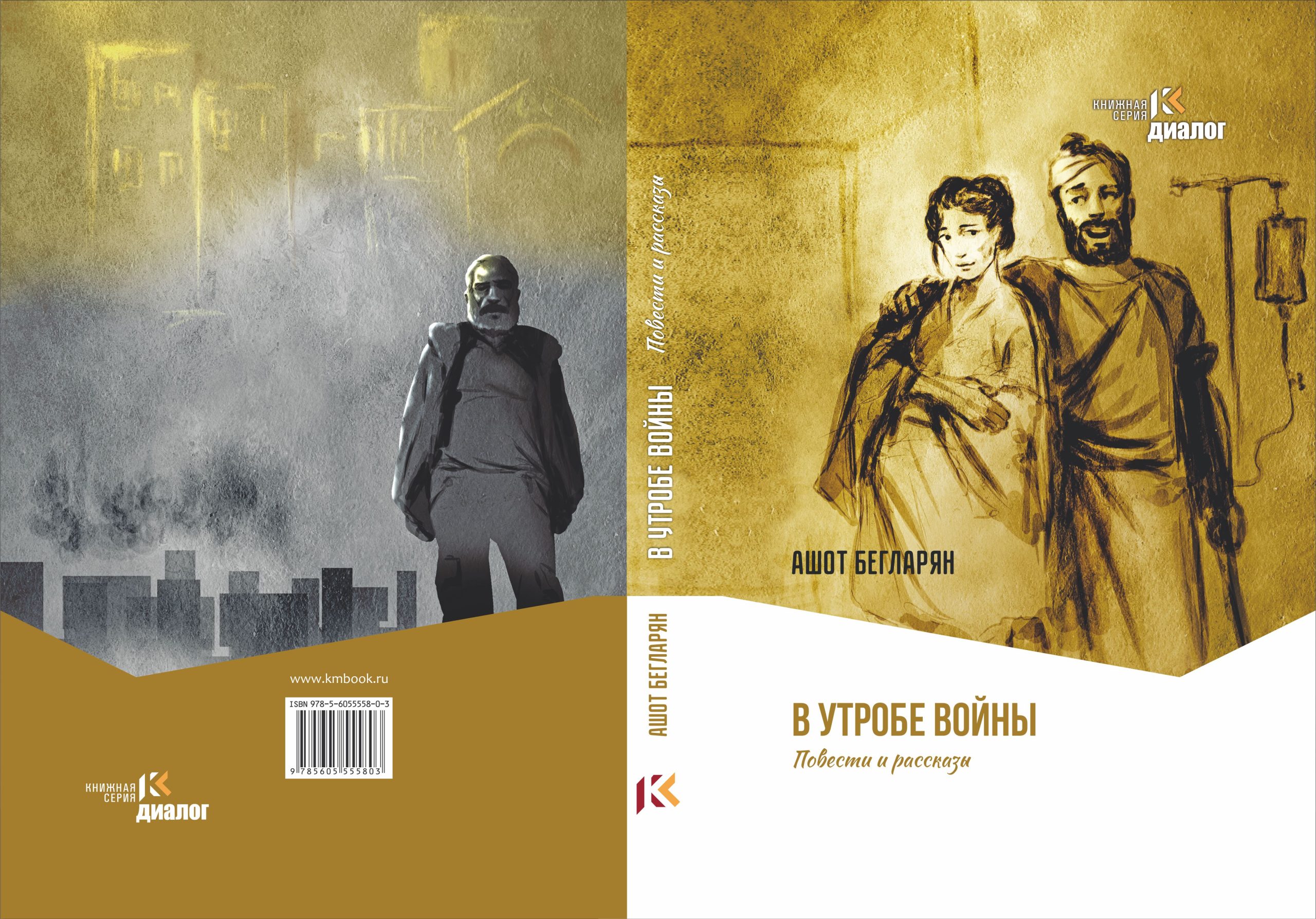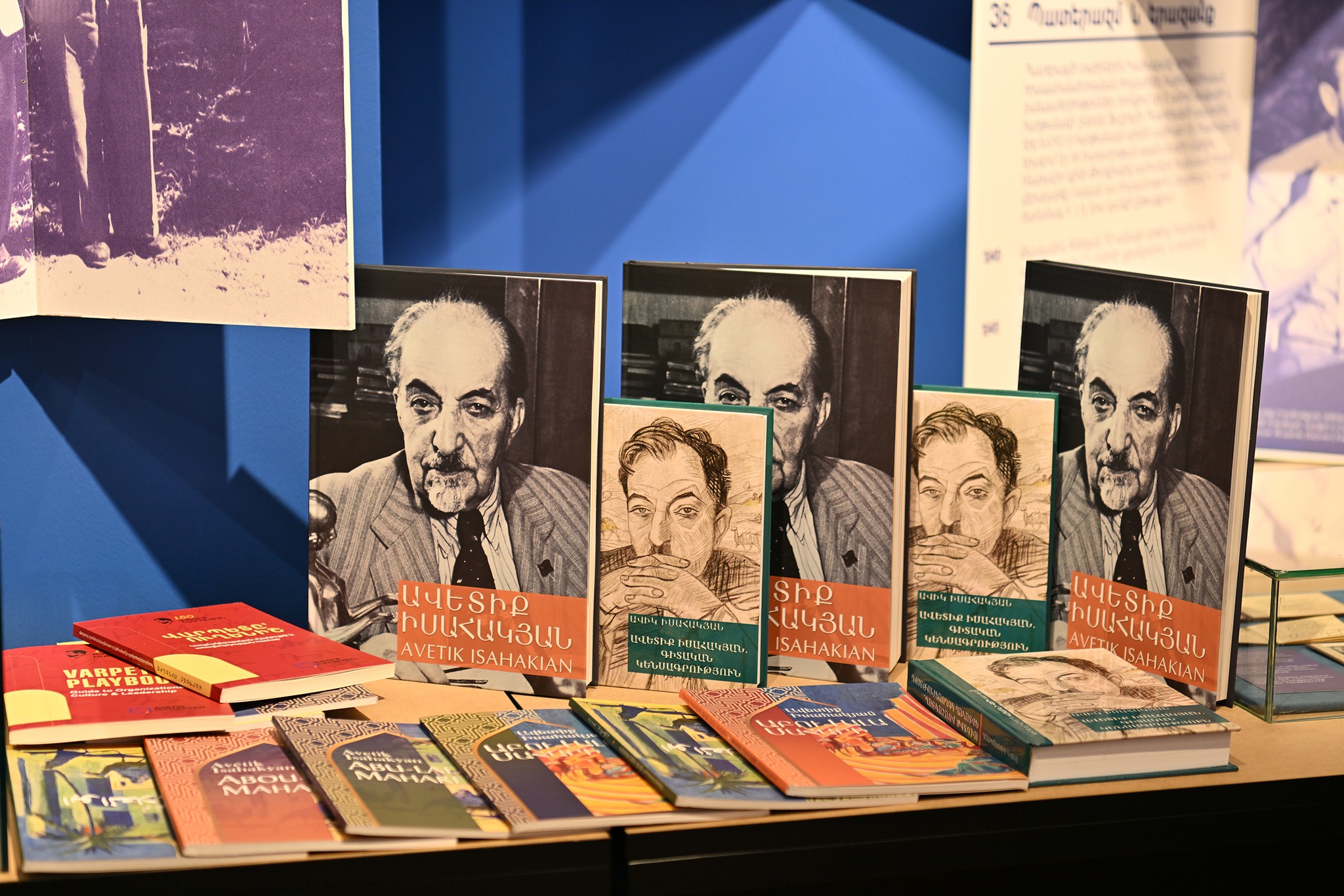Автор «ГА» — кинорежиссер Гарник АРАЗЯН в 2003 году опубликовал в «Московских новостях» свою беседу с Марленом Хуциевым.
Кинорежиссер Марлен Хуциев скончался в возрасте 93 лет, он — один из важнейших режиссеров российского кино. Его модернистский, изобретательный, свободный от клише и упрощений кинематографический язык не только во многом задал стиль всего советского экрана 60-х годов XX в., но и не устарел по прошествии десятилетий.
Гарник АРАЗЯН: — Марлен, как ты думаешь, то, что случилось в Карабахе и Грузии, могло не случиться?
Марлен ХУЦИЕВ: — Я думаю, что тогда это могло и не быть! Когда была единая страна, понимаешь?
Г.А. — Означает ли это, что ты за то, чтобы вернулись прежние порядки?
М.Х. — Я не за то, чтобы вернулись к старым методам, подавлениям. Я вообще против всяческого разрушения. Я только за созидание. Много было глупостей, но мы жили дружно, что тут, что там. Это было прекрасно…
Г.А. — Марлен, так как мы затронули немного нашу бывшую систему, я бы хотел спросить тебя о шестидесятниках. Ведь в какой-то степени, на мой взгляд, в кино это был как Ренессанс.
М.Х. — Конечно!
Г.А. — Были прекрасные фильмы, прекрасные режиссеры… А сейчас, к сожалению, этого нет. Виноваты ли произошедшие в стране изменения или не только это?
М.Х. — Само по себе явление шестидесятых годов тоже интересное.
Г.А. — Я бы хотел, чтобы ты связал это с сегодняшним днем.
М.Х. — Я это свяжу, но хочу сказать, что в шестидесятых годах есть свой уровень, свой парадокс. Мы говорим: тоталитаризм, застой… Тоталитаризм как политическая система, так скажем. Тем не менее она провозглашала — пускай ханжески, часто и лицемерно, — но какие-то духовные ориентиры, духовные ценности… Госкино, комитеты — это был продюсер. Он, конечно, где-то перегибал палку, высматривал, не нарушаем ли где-то, все это было нелепо, но тем не менее туда не проникало другое; понимаешь, свобода, которая сейчас есть, свободная торговля, которая имеет массу преимуществ, свободное развитие личности, но свобода — это же не анархия, она должна быть в рамках…
Г.А. — Марлен, конечно, во многом я не могу с тобой не согласиться, но для меня есть одно «но». Все то, что ты очень корректно, очень нежно сказал о том времени, о шестидесятых, это все верно…
М.Х. — Почему? Я действительно считаю, что был замечательный период!
Г.А. — Но, насколько мне известно, ты ведь тоже тогда пострадал?
М.Х. — Да, ну и что?
Г.А. — В связи с «Заставой Ильича»?
М.Х. — А что, я сейчас не страдаю?
Г.А. — Сейчас все страдают.
М.Х. — Да! Но как я пострадал? Глупость, конечно, потому что вмешался в мою картину глава государства, там пошли интриги… Но тогда ко мне с уважением относились. Кинематографическое руководство интересовалось, что я собираюсь делать, они говорили, почему долго молчу, и так далее… Это была парадоксальная эпоха, понимаешь? Из нее надо было выходить очень разумно! А это было сделано хирургическим путем. Я не отрицаю преступлений Сталина, но нельзя было так быстро сделать это разоблачение. Еще живы были люди, которые на своих плечах вынесли войну, привели к победе! Нельзя было их сразу лишать идеала… Ведь недаром во многих странах существует закон о секретности: провозглашать через пятьдесят лет!..
Г.А. — Мне очень печально, что сегодня в стране странное отношение к культуре. Как бы ни захотели улучшить экономически жизнь, без культуры будет крах.
М.Х. — Конечно! Культура — это наши легкие, это воздух, которым они дышат. Если нет культуры, то нет и нации. Нет человека!
Г.А. — Марлен, мог ли ты из своих фильмов выделить один какой-нибудь, самый значимый? Или все они — как детище, и ты любишь их одинаково?
М.Х. — Ко всем своим картинам у меня есть претензии, и я не считаю ни одну из них завершенной. Они у меня все одинаковые и разные. И для меня самое главное — это человек!
Г.А. — Расскажи, пожалуйста, почему не удалось тебе снять фильм о Пушкине? Насколько мне известно, ты долгие годы занимался этой темой!
М.Х. — Уже шел подготовительный период, но денег дали очень мало. Тогда на «Мосфильме» снимались две большие картины. А моя картина должна была быть о Пушкине и о пушкинской эпохе. У меня там должны были быть большие масштабные сцены. Это должна была быть не домашняя картина. Но для этого не было денег. Я помню, по-моему, давали не то миллион четыреста, не то миллион девятьсот, в то время как «Красным колоколам» дали пятьдесят миллионов. Я сейчас не хочу проводить параллели, но просто средств, которые мне давали, на картину не хватало. И еще они поняли, что я не пойду на компромиссы. Тогда все и закончилось.
Г.А. — Марлен, а тебе никогда не хотелось сделать грузинскую картину?
М.Х. — У меня был прекрасный замысел. Картина о Тбилиси. Но почему-то… А тебе хотелось сделать армянскую?
Г.А. — Очень! Я давно хочу сделать армянскую картину сугубо о театре. Я помню очень много смешных и трогательных историй. Ты ведь знаешь — наш кавказский зритель особенный, непосредственный… Я тебе расскажу, если ты не знаешь, один эпизод про Тбилисский армянский театр.
Идет в армянском театре пьеса о революционере Камо. Открывается занавес. На переднем плане множество горшков с цветами. И вождь пролетариата Ленин аккуратно, с любовью, из лейки поливает цветы. Сзади открывается дверь и входит Камо. Увидев, чем занят вождь пролетариата, застывает в дверях и с улыбкой следит за Лениным. Ленин стоит спиной к Камо и продолжает поливать. Ленин поливает, Камо улыбается. Наконец из зала один из зрителей громко говорит:
— Ленин, Камо пришел!
Ленин продолжает поливать, а Камо — улыбаться. Снова тот же зритель из зала:
— Ленин, Камо пришел!
Сцена продолжается, и тогда зритель встает с места и громко говорит:
— Слушай, Ленин, тебе говорят: Камо пришел, стоит в дверях. Повернись!
И тогда актер, игравший Ленина, обращается возмущенно к этому зрителю:
— Слушай, знаю, что пришел, знаю! Но по пьесе я сначала должен полить все цветы, потом только повернуться и увидеть Камо! Что за народ!
Таких историй полно у меня. Когда я был актером в Армении, часто из зала во время спектакля мне задавали вопросы и ждали ответа.
М.Х. — Это здорово сделать. У меня мать была актрисой в маленьком театре водевилей. Я с ней тоже разъезжал летом по всей Грузии на гастролях. Это очень интересно! В маленьких селах, городках…
Г.А. — Марлен, скажи, пожалуйста, несколько слов о моем любимом, гениальном режиссере Феллини. Ты ведь был знаком с ним?
М.Х. — Да, мы были знакомы. К сожалению, я стеснялся. Я мог бы писать ему, и он бы отвечал. Но я стеснялся и не писал, хотя я бывал у него дома. И когда я был в Венеции с картиной, то получил от него поздравление с пожеланием успехов. Последнее мое общение с ним было, когда я был в Сицилии и мы говорили с ним по телефону. Он тогда сказал поразительную фразу: «Дружба — это одно из величайших благ, которым обладает человек». Прислал огромный букет цветов в Римини, куда должен был приехать, но не приехал. А я записал ему телевизионное послание. Поразительный, уникальный в своем даровании… И вот при всем при том он был, во всяком случае в тех отношениях, верхом деликатности, простоты… Я просто знаю наших мастеров и не мастеров, с какой важностью они существуют, а тут так просто. Я был на вилле у него, даже с Мазиной мы танцевали вальс.
Г.А. — Потрясающая актриса!
М.Х. — Ну что ты!.. И, когда это случилось, я был в Саратове, когда он болел тяжело, я все время звонил домой и сын говорил мне, что сказали — осциллограмма прямая… Я все надеялся на какое-то чудо! Но… А потом, через некоторое время, ушла и Мазина.
Г.А. — Марлен, какова судьба российского кинематографа сегодня? Куда деваются отечественные фильмы, которые, как говорят, снимаются? Ведь фактически получается, что они снимаются для определенного круга людей, которые тусуются на разных фестивалях и дают друг другу призы!
М.Х. — Я не могу сказать, как обстоит дело в производстве, я давно ничего не снимал. Я наблюдаю, читаю, слушаю, на фестивалях бываю крайне редко. Недавно были фестиваль нашей гильдии, так называемые, правозащитные фильмы, фестиваль «Сталкер». Фильмы правозащитные — это права человека не только в политических обстоятельствах. Условия жизни, окружающая среда, нравственность — это все входит в понятие «защита человеческих прав», права на жизнь, на чистый воздух, на обеспеченность, питание, одежду, безопасность… Это все входит в права человека.
Что касается фестивалей. Когда говорят «тусовка», это слово мне глубоко ненавистно, потому что общение — это одно, а «тусовка» — это собраться, пожевать, выпить, посплетничать… Раньше были не только фестивали, были семинары, конференции, где собиралось некоторое количество людей, вместе смотрели фильмы, обсуждали, печатали статьи, отчеты и так далее. Необходимость общения, осмысления всегда существовала раньше. Сейчас этого почти нет.
Г.А. — Да и большинство фильмов, которые снимаются, куда-то деваются, и безрезультатно — нет проката, а сама тематика фильмов оставляет желать лучшего.
М.Х. — Нет настоящей темы: проблема любви, верности, семьи, истинных взаимоотношений… Этого нет. Включи любую программу — один криминал.
Г.А. — А если и не криминал, то, конечно, американский фильм.
М.Х. — Я сейчас о нашем кино говорю. Американское — это отдельный разговор. Конечно, серьезного кинематографа, который необходим, в общем-то нет! Я снова повторяю, что раньше руководители страны придавали кинематографу огромное воспитательное значение. Обрати внимание. По телевидению — я сейчас не беру кинематограф — довольно часто слышишь такую фразу: хорошо отдохнули. Реклама, отдых, развлечения, криминал… Все! Нормальных человеческих отношений нет.
Г.А. — А как, по-твоему, правильно ли, что существуют фестивали, конкурсы, где несколько человек, кем-то назначенных, решают вопрос, какой фильм лучше, а какой хуже? И бывает ли в этих решениях объективность? Правда, было одно приятное исключение, когда в 1963 году на московском фестивале совершенно объективно Гран-при получил Феллини со своим фильмом «Восемь с половиной». И то, если не ошибаюсь, был скандал в правительстве по этому поводу. Кто дал право этим людям решать, кто лучше, а кто хуже?
М.Х. — Вот ты говоришь, что справедливость восторжествовала и дали Гран-при фильму «Восемь с половиной». Мы все были рады. Также были рады, когда Гран-при получила картина «Летят журавли».
Г.А. — Года два назад я поехал на фестиваль со своей картиной «Заколдованные», которая участвовала вне конкурса. Здесь, в Москве, у Дома кино, где мы собрались, чтобы поехать в аэропорт, мне рассказали, вернее, расписали, кому какую премию должны дать.
М.Х. — Это наши картины?
Г.А. — Да, наши! И, когда фестиваль кончился, все призы, один к одному, получили те, о которых перед поездкой рассказали в Москве. Хотя там существовало жюри, которое якобы должно было решить.
Марлен, скажи, пожалуйста, как и кем формируется комиссия по отбору фильмов на соискание «Оскара»? Как-то Александр Голутва в беседе с Андреем Максимовым в передаче «Ночной полет» сказал, что якобы эту комиссию формирует общественность. Что это за общественность?
М.Х. — Мне кажется, что это «якобы»! Я понятия не имею, понимаешь? Я человек не амбициозный, не корыстный, никогда за этим не слежу, потому что знаю, что люди ходят, просят, чтобы их послали… Я никогда этим не занимался. Для меня сейчас была приятная неожиданность, когда пригласили меня недавно в Токио с моей картиной «Июльский дождь».
Г.А. — Сейчас много говорят о развитии нашего кинематографа. Как тебе известно, большинство наших коллег осталось за бортом, и никаких возможностей у них нет найти работу, то есть снимать кино. А ведь многие из них талантливы. Как ты думаешь, если кто-то из них пойдет к Швыдкому или к Голутве и попросит денег на постановку фильма, они дадут или опять все делается по блату и по кланам, как было при советской власти?
М.Х. — Я уже говорил, что при советской власти были свои достоинства. Я тебе скажу, ну, например, очень долгое время я не ходил, не просил. Как бы считал, что если есть во мне интерес, то должны помнить и сказать!
Сейчас Швыдкой сказал, что, если я буду снимать, он будет финансировать. Это было мне приятно слышать. Гарник, я человек с определенным чувством собственного достоинства, не мог ходить и просить.
Г.А. — Марлен, как ты относишься к критикам?
М.Х. — Я нормально отношусь не к критикам, а к институту критики. Мне интересно было читать то, что серьезные, умные люди напишут. Но это большая редкость. Сейчас такая клановая критика. Они начинают кого-то выдвигать, и это начинает выглядеть как некий эталон, которому надо следовать.
Г.А. — Ведь и раньше, как ты говоришь, когда критика была на уровне, все равно критик, не умеющий работать со сценарием, с актерами, не умеющий монтировать, работать с композитором, с художником и так далее, этот критик часто учил и учит нас, режиссеров, уму-разуму! Как ты думаешь, может быть, было бы правильно, когда критик пишет про какое-то произведение, в обязательном порядке дать автору произведения тоже выступить? Речь идет о прессе, телевидении. А то получается игра в одни ворота.
М.Х. — Да, я с тобой согласен. Это должно быть естественно.
Г.А. — Ведь критик может средний фильм поднять до небес…
М.Х. — Конечно!
Г.А. — А хороший фильм, настоящее искусство, просто уничтожить в глазах зрителей, что нередко и делается!
М.Х. — Конечно!
Г.А. — Марлен, перейдем к нашим «болячкам». Что такое современный герой на экране? Существует ли он у нас? Если нет, то надо ли найти его?
М.Х. — Надо, обязательно надо! Современный герой — это тот, которому хочется подражать, чтобы у него тоже были положительные качества, которые являлись бы примером для других…
Г.А. — А сейчас есть кому подражать?
М.Х. — Некому! Бывают разные герои…Я тебе хочу сказать, что, когда я делал «Заставу Ильича», у меня был герой, который искал свой путь, сомневался, это тоже важно. Сомнения — это тоже способ доказательства для утверждения. То есть утверждать через сомнения, а не сразу. Таким образом даешь возможность зрителю пройти этот процесс, от чего к чему прийти. Между прочим, в этом плане, в создании героя, американцы очень сильны! Я должен сказать, что отрицательный герой — это тоже герой. Через него мы можем выявить положительное.
Г.А. — Сейчас во всех кинотеатрах, на всех каналах телевидения идут американские фильмы. Что надо сделать, чтобы американский кинематограф не уничтожил российское кино?
М.Х. — По этому поводу часто привожу пример Франции, которая установила квоту на американское кино, и этот путь совершенно правильный.
Г.А. — Для чего нужен человеку кинематограф?
М.Х. — Кинематограф нужен человеку, чтобы поддерживать в нем человеческое начало, поддерживать дух, надежду… Это очень важно.
Г.А. — Над чем ты сейчас работаешь?
М.Х. — Я собираюсь делать фильм про Чехова и Толстого.
Г.А. — Марлен, ты счастлив? И что значит счастье?
М.Х. — Я бываю иногда счастлив, иногда несчастлив! А что такое счастье? Я думаю, что это достижение цели, творческой цели… Цели бывают разными: разрушительными, а бывают созидательными. Общение с друзьями… К сожалению, с друзьями наступает полоса, когда они постепенно уходят…
Г.А. — Что бы ты хотел сам себе пожелать, кроме, разумеется, крепкого здоровья?
М.Х. — Здоровья, конечно, в первую очередь! Здоровья моим близким! И работы! Чтобы была работа!
Интервью, присланное нашим московским автором — кинорежиссером Гарником Аразяном, с сокращениями было напечатано в «Московских новостях» в 2003 году.