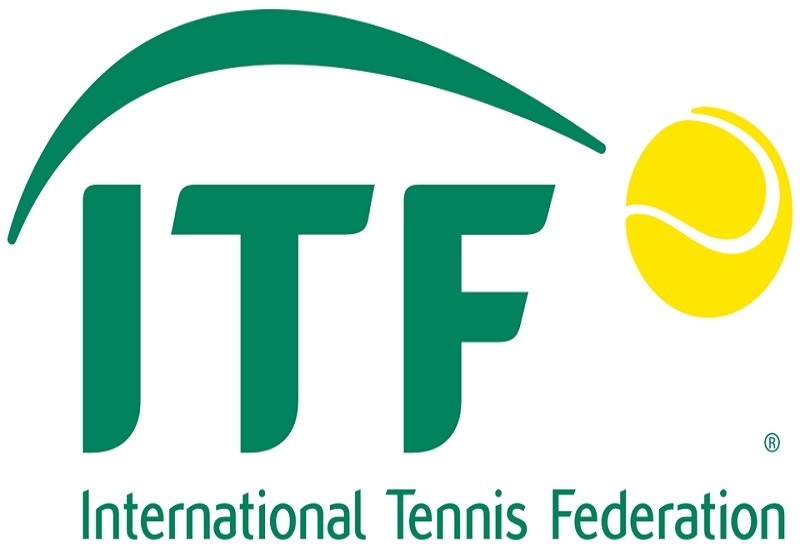* Чудовищная эффективность
* Почему не анализируются итоги приватизации?
В ходе начавшейся с начала 90-х гг. прошлого века экономической реформы в нашем обществе утверждалась мысль об объективных преимуществах рыночных механизмов перед механизмом централизованного управления экономикой. Исходя из предлагаемой аксиомы было ясно, что потребуется целый ряд принципиальных преобразований.
Ныне, по прошествии двух десятилетий с начала радикализации экономических реформ, их результаты у одних, в основном их авторов, вызывают восторг, у большинства — глубокое разочарование. К сожалению, до сих пор не сделан серьезный критический анализ результатов этих реформ.
Между тем страна пережила социально-экономическую катастрофу — резкое падение производства и уровня жизни. Фактически экономические реформы 90-х гг. оказались провальными, и именно они стали предтечей развернувшегося вслед за ними сценария событий во всех сферах общественной жизни Армении вплоть до дня сегодняшнего.
Крайне негативную роль в этом процессе сыграла произошедшая уже в ходе реформы подмена самой западной науки с ее действительно богатейшим содержанием и драматической историей весьма специфическим суррогатом — доктриной "Вашингтонского консенсуса", который был сформулирован экономистом Джоном Уильямсоном в 1989г. как свод правил экономической политики для стран Латинской Америки. Причем такая подмена достаточно точно выражала умонастроения влиятельных чиновников американской администрации и международных финансовых организаций — МВФ, Всемирного банка и Агентства международного развития, для которых она служила орудием политики. Речь шла о том, что без принятия всех "10 заповедей" "Вашингтонского консенсуса" постсоветским странам не стоило рассчитывать на благосклонный прием в Вашингтоне, а значит, и на кредиты ВБ и МВФ или иностранные инвестиции.
В этой связи следует подчеркнуть, что западная наука не несет никакой ответственности за созданный о "Вашингтонском консенсусе" миф: наоборот, лучшие экономисты Запада при огромном интересе к нашим проблемам всегда были чрезвычайно осторожны в своих выводах и рекомендациях, постоянно настаивали на необходимости серьезного профессионального изучения экономики изнутри и всячески дистанцировались от не в меру бойких консультантов международных финансовых организаций, хлынувших в Армению со своими рецептами.
Мы в своих экономических реформах, как известно, руководствовались именно макроэкономикой покроя "Вашингтонского консенсуса", на которую нас нацеливали горе-реформаторы 90-х годов. Либерализация цен, с которой началась шоковая терапия, вызвала беспрецедентный взрыв инфляции. "Реформаторы начали отчаянно бороться с ней монетаристскими методами, предельно ограничивая денежную и кредитную эмиссию, бюджетные расходы государства и повышая процентную ставку. В результате очень скоро отношение денежной массы к ВВП оказалось на предельно низком уровне — примерно 15%, что выглядело исключением в мировой практике. Экономика начала страдать от денежного голода. В результате страну парализовал кризис неплатежей.
Высокая инфляция обходится дорого, но не менее деструктивны безденежье, неплатежи, широкое распространение бартера. Особенно губительные последствия имела обвальная приватизация государственной собственности. Преимущества частной собственности над государственной воспринимались так называемыми либеральными экономистами в качестве аксиомы, не требующей подтверждения анализом фактов, МВФ торопил с проведением быстрой приватизации. Причем за этой роковой ошибкой стояли, как теперь стало очевидным, материальные интересы тех, кто хотел совместить власть с приобретением почти задарма жирных кусков собственности. Армянская практика приватизации коренным образом отличалась от западноевропейской, которая проводилась постепенно и распространялась в первую очередь на нерентабельные государственные предприятия с целью сделать их прибыльными.
В Армении трудно найти пример успешной приватизации ведущих отраслей и предприятий промышленности, проводимой, что называется, в ночь с сегодня на завтра, без знания истинной цены имущества и установления общепризнанных норм и правил управления им. Таким образом, в Армении победила "скоростная" идеология: шоковый отпуск цен, быстрое открытие рынков, быстрая либерализация рынка капитала.
Необходимо отметить, что зацикленность МВФ на макроэкономике, и особенно на инфляции, привела к полному игнорированию проблем бедности, социального неравенства и социального капитала. А они являются центральными с точки зрения соблюдения социального контракта, т.е. согласия между всеми слоями общества, между государством и его гражданами, без чего подлинный экономический прогресс недостижим.
 Поэтому переоценка ультралиберальных рецептов "Вашингтонского консенсуса" составляет, думается, один из самых важных выводов, который поможет преодолеть трудности нынешнего кризисного периода. В центре переосмысления, несомненно, находится вопрос о роли государства. Архитекторы реформ считали, что государство в экономике — это "ночной сторож", и призывали к его уходу из экономики. Никакие контраргументы в расчет не принимались. Самый действенный рычаг преобразований — государственный механизм управления и соблюдения порядка — оказался у нас разлаженным, недостаточно компетентным, разъеденным коррупцией, лишенным иммунной системы.
Поэтому переоценка ультралиберальных рецептов "Вашингтонского консенсуса" составляет, думается, один из самых важных выводов, который поможет преодолеть трудности нынешнего кризисного периода. В центре переосмысления, несомненно, находится вопрос о роли государства. Архитекторы реформ считали, что государство в экономике — это "ночной сторож", и призывали к его уходу из экономики. Никакие контраргументы в расчет не принимались. Самый действенный рычаг преобразований — государственный механизм управления и соблюдения порядка — оказался у нас разлаженным, недостаточно компетентным, разъеденным коррупцией, лишенным иммунной системы.
В центре внимания любой концепции реформирования экономики Армении неизбежно оказываются вопросы участия государства в экономике, государственного регулирования, управления государственной собственностью. На государство ложатся ответственные функции предотвращения и преодоления провалов рыночных механизмов как в денежно-финансовой сфере, что сегодня всем очевидно, так и в других областях. Речь идет прежде всего о предотвращении опасного имущественного расслоения населения. Рынок без сильного государства приводит к замене безответственной государственной власти нерегулируемым частным обогащением, ведущим к экономическому и социальному упадку. Это у нас и произошло в начале 90-х годов.
Мы в Армении должны осознать, что только государство способно противодействовать стихии нарастающего социального расслоения населения, гарантировать справедливый доступ людей к общественным благам и тем самым способствовать консолидации и стабильности общества. Но для этого государство должно быть авторитетным и эффективным, выражать и защищать интересы всех слоев народа.
Прошло без малого 20 лет, и пора удосужиться государству спросить себя: велика ли экономическая эффективность применения "заповедей" "Вашингтонского консенсуса"? От алчного армянского капитализма ощутимого рывка в развитии страны как не было, так и нет. Бюрократия подстроила экономику под свои интересы. Она контролирует и общество, и бизнес, выстраивает жизнь так, как выгодно ей. В таких условиях инновационная деятельность невозможна — заблокированы вход на рынок наиболее конкурентоспособных компаний и выход из него нежизнеспособных фирм. Почему у нас, как в цивилизованных странах (в Англии, например), приватизация не сочетается с национализацией, когда государство возвращает под свое крыло полученную им в результате приватизации собственность, неэффективно используемую частным владельцем? Правящий класс так и не ответил на вопрос: почему не пересматриваются итоги приватизации, которая вместо обещанного развития отбросила страну назад на несколько десятилетий?
На традиционный вопрос "что делать?" есть ответ: для начала необходимо поставить "точный диагноз" произошедшему, провести полную экономическую и социальную диагностику последних 20 лет, иначе любое лечение окажется неправильным, а значит, бесполезным. Пока рано считать, что "прогноз неблагоприятный, необходимое лечение отсутствует". Исправить положение еще возможно, но для этого нужны кардинальные решения.
Президент С.Саргсян неустанно генерирует новые идеи. Их можно только приветствовать. В этой связи коалиционное правительство призвано не только корректировать провалы и ограниченность рынка, но и предпринимать весьма энергичные усилия, направленные на последовательное и неуклонное воплощение принципа социальной справедливости в жизнь. Кстати, этот принцип самым прямым и непосредственным образом связан с моральной легитимностью любой публичной власти.
Первостепенное значение имеет кадровая политика. Коалиционные фракции Национального Собрания осуществляют крайне бессистемную и, что гораздо хуже, удручающе беспринципную политику в этой сфере. Многие из назначенцев оказываются совершенно непригодными к осуществлению министерских функций, а некоторые, что куда страшнее, действуют на новом поприще безнравственно, исключительно в собственных и партийных, а отнюдь не в государственных интересах.
Совершенно очевидно, что правящий класс должен непрерывно обновляться (об этом неоднократно говорил президент), ему необходим приток новых людей, идей и взглядов, ибо в этом залог его жизнеспособности и эффективности.
…Итак, из опыта 1990-х следует новое понимание реформы: реформа не одномоментный акт, а построение последовательности промежуточных институтов в подходящем моральном и нравственном пространстве.