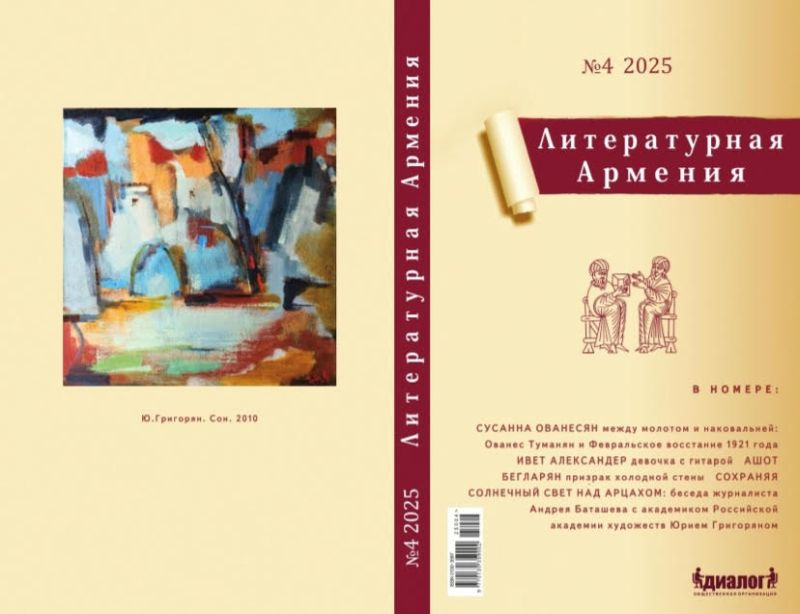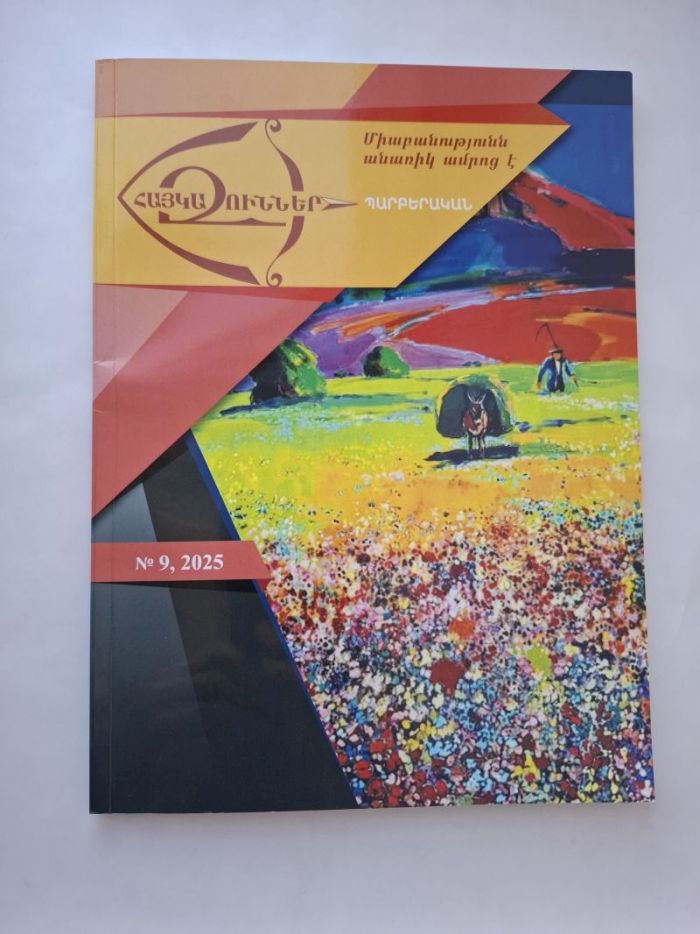В ряду памятных музыкальных дат нынешнего года одной из самых значительных является 180-летие выдающегося французского композитора, органиста, дирижера, педагога, музыкального критика, музыкально-общественного деятеля Габриеля Форе. Этой дате был посвящен концерт государственного камерного оркестра Армении, который прошел в Большом зале Армфилармонии им. А. Хачатуряна. Программа гала-концерта, целиком состоящая из произведений Форе, завершила Дни Франкофонии в Армении. Инициаторами вечера были Национальный центр камерной музыки, Посольство Франции в РА, МОНКС и Французский институт в Армении.
НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СТРАНЫ, представители французского и других посольств, музыкальная общественность, многочисленные гости и просто любители музыки. В нем приняли участие Государственный камерный оркестр Армении под управлением приглашенного главного дирижера Филиппа Амелунга (Германия), Армянский государственный хор (художественный руководитель и главный дирижер, народный артист РА — Роберт Млкеян), Ереванский государственный камерный хор под управлением Кристины Восканян и солисты — Эмануэль Шименто (сопрано, Франция), Ашот Гантарджян (баритон), Софи Степанян (виолончель). В программу вошли «Элегия, оп. 24, Ноктюрн из сюиты Шейлок, оп. 57, Павана, оп. 50, Духовный гимн на слова Жана Расина и «Реквием» Форе.
 Творческая, педагогическая и музыкально-общественная деятельность Форе оказала значительное влияние на развитие французской музыки конца XIX — начала XX века. Его творчество связало эпоху С. Франка и Сен-Санса с эпохой К. Дебюсси и М. Равеля, подготовило почву для музыкального импрессионизма. В то же время для Форе была характерна ориентация на классические и романтические традиции. Излюбленные жанры его творчества ограничены преимущественно сферой «чистой» музыки. Наиболее близки его дарованию камерно-инструментальная музыка, вокально-инструментальная миниатюра.
Творческая, педагогическая и музыкально-общественная деятельность Форе оказала значительное влияние на развитие французской музыки конца XIX — начала XX века. Его творчество связало эпоху С. Франка и Сен-Санса с эпохой К. Дебюсси и М. Равеля, подготовило почву для музыкального импрессионизма. В то же время для Форе была характерна ориентация на классические и романтические традиции. Излюбленные жанры его творчества ограничены преимущественно сферой «чистой» музыки. Наиболее близки его дарованию камерно-инструментальная музыка, вокально-инструментальная миниатюра.
Гораздо реже и преимущественно в последние годы жизни Форе обращается к сочинениям крупной формы. По мнению Ш. Кеклена, ученика и биографа Форе, «сдержанность его искусства, столь личная, интимная, выражающая его внутреннее «я» — все это несовместимо с оркестром». Даже в «Реквиеме», где Форе поднимается подчас до высот подлинного драматизма, лирическое миросозерцание автора сказалось в том, что он исключил трагическое Dies Irae и закончил его картиной покоя и умиротворения. Как «Реквием» так и его единственная опера «Пенелопа» явились значительным событием в музыкальной жизни Франции, а последняя, наряду с оперой К. Дебюсси, признана одним из шедевров французской музыки XX века.
Программу гала-концерта открыла Элегия, прозвучавшая вполне достойно в исполнении виолончелистки Софи Степанян и Государственного камерного оркестра под управлением Филиппа Амелунга. Она прозвучала в полутонах, сразу заставив зал прислушаться. Обострились слух, восприятие, растворилось неподвижное равнодушие, с которым нередко публика ожидает, когда ее завоюют. Стали очевидными индивидуальные качества виолончелистки, делающие ее игру столь привлекательной: легкость и изящество штрихов, певучесть и проникновенная теплота звукоизвлечения. Особенно интересно было слушать нетрадиционную, очень личностную трактовку дирижера. Кстати, Филипп Амелунг сменил на посту приглашенного главного дирижера этого оркестра, известного музыканта Рубена Казаряна, который сейчас работает с Израильским оркестром.
ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ДОСТАВИЛИ ИСПОЛНЕННЫЕ ЗАТЕМ НОКТЮРН ИЗ СЮИТЫ ШЕЙЛОК, оп. 57, «Павана», Духовный гимн на слова Жана Расина. Исполнителей не смутили интерпретации многочисленных предшественников — играли они вдохновенно, с собственными, весьма убедительными интонациями, вызывая большой интерес. Все было исполнено тонко, сдержанно, как погружение в мир больших, глубоких чувств, где нет места внешним эмоциональным вспышкам. Музыка Форе, впитавшая эстетические принципы импрессионизма и символизма, дает простор колористической фантазии исполнителей. И музыканты вполне осознали свои возможности, проявив исполнительскую виртуозность и продемонстрировав чуткое слушание полифонической ткани.
На высочайшем артистическом подъеме был исполнен оркестром и хорами «Реквием» Форе, который в Армении звучит очень редко. Гораздо чаще в наших залах мы слушаем реквиемы Моцарта и Верди. Поводом к сочинению «Реквиема» Форе в 1888 году, вероятно, стала смерть родителей. В том же году первая редакция (их несколько) прозвучала под управлением самого автора в парижской церкви Св. Марии Магдалины, где когда-то служил органистом его учитель Сен-Санс. Она состояла из пяти частей и была необычна по составу музыкантов. Произведение было исполнено хором мальчиков, мальчиком-сопранистом и камерным оркестром, в котором отсутствовали скрипки.
В 1893 году композитор создал вторую редакцию. «Реквием» в семи частях со смешанным хором, солистом-баритоном, а в Sanectus появилась солирующая скрипка. Через семь лет Форе сделал третью редакцию для большого оркестра, большого хора и двух солистов — сопрано и баритона, который сейчас исполняется чаще всего. Во всех трех редакциях отсутствует Dies Irae («День гнева») — наиболее грозная, если не устрашающая часть реквиема. В двух последних редакциях она появляется как напоминание о «Страшном суде» («Освободи меня от горького дня гнева Твоего») в соло баритона.
 В отличие от хорошо известных нам «Реквиема» Моцарта и «Реквиема» Верди и произведений в этом жанре других композиторов, у Форе отсутствует страх смерти. Как отмечают биографы Форе, его реквием демонстрирует, что в грозного, неумолимого и карающего Бога Форе не был склонен верить. В его музыке раскрывается один из основополагающих принципов христианства: «Бог есть любовь». Композитор написал с позиции любви к ближнему. Главная сущность этой музыки утешение для скорбящих, потерявших близких людей.
В отличие от хорошо известных нам «Реквиема» Моцарта и «Реквиема» Верди и произведений в этом жанре других композиторов, у Форе отсутствует страх смерти. Как отмечают биографы Форе, его реквием демонстрирует, что в грозного, неумолимого и карающего Бога Форе не был склонен верить. В его музыке раскрывается один из основополагающих принципов христианства: «Бог есть любовь». Композитор написал с позиции любви к ближнему. Главная сущность этой музыки утешение для скорбящих, потерявших близких людей.
ПЛАВНОСТЬ И ТЕКУЧЕСТЬ МЕЛОДИЙ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА «ВЕЧНОГО ПОКОЯ», который несет смерть с точки зрения христианства. Этот вечный покой не кажется мрачным — мелодии Габриеля Форе глубоко человечны, исполнены нежности, сердечности, теплоты.
На упреки в чрезмерной лиричности, Форе отвечал, что именно так он чувствует смерть, «как счастливое избавление, надежду на потустороннее счастье, а не как мучительный переход».
В трактовке маэстро Амелунга ощутимы творческая воля создателя-автора, строгая величавость, классическая уравновешенность при поразительном богатстве образов Реквиема. Без остатков отдавались музыканты дирижерской воле, играя с тем горением, которое от них требовалось, проявляя образцы техники, легкости. Маэстро сумел слить в одно целое всех участников концерта — Государственный камерный оркестр, Армянский государственный хор, Ереванский государственный хор и солистов — сопрано Эмануэля Шименто и баритона Ашота Гантарджяна и вдохновить их на блистательное действо, добившись полного контакта. Изысканное музыкальное чутье дирижера, его тонкое постижение тембров — будь то человеческий голос или любой инструмент оркестра — позволили ему достичь истинной высоты в исполнении партитуры.
Стилистически точно и с хорошим вкусом пел Ашот Гантарджян свою партию, безукоризненно исполнив ее в очень сдержанной манере. В великолепной форме была сопрано Эмануэль Шименто, захватив зал артистизмом, красотой голоса, в котором словно звучало пронзительное ощущение таинственности происходящего…