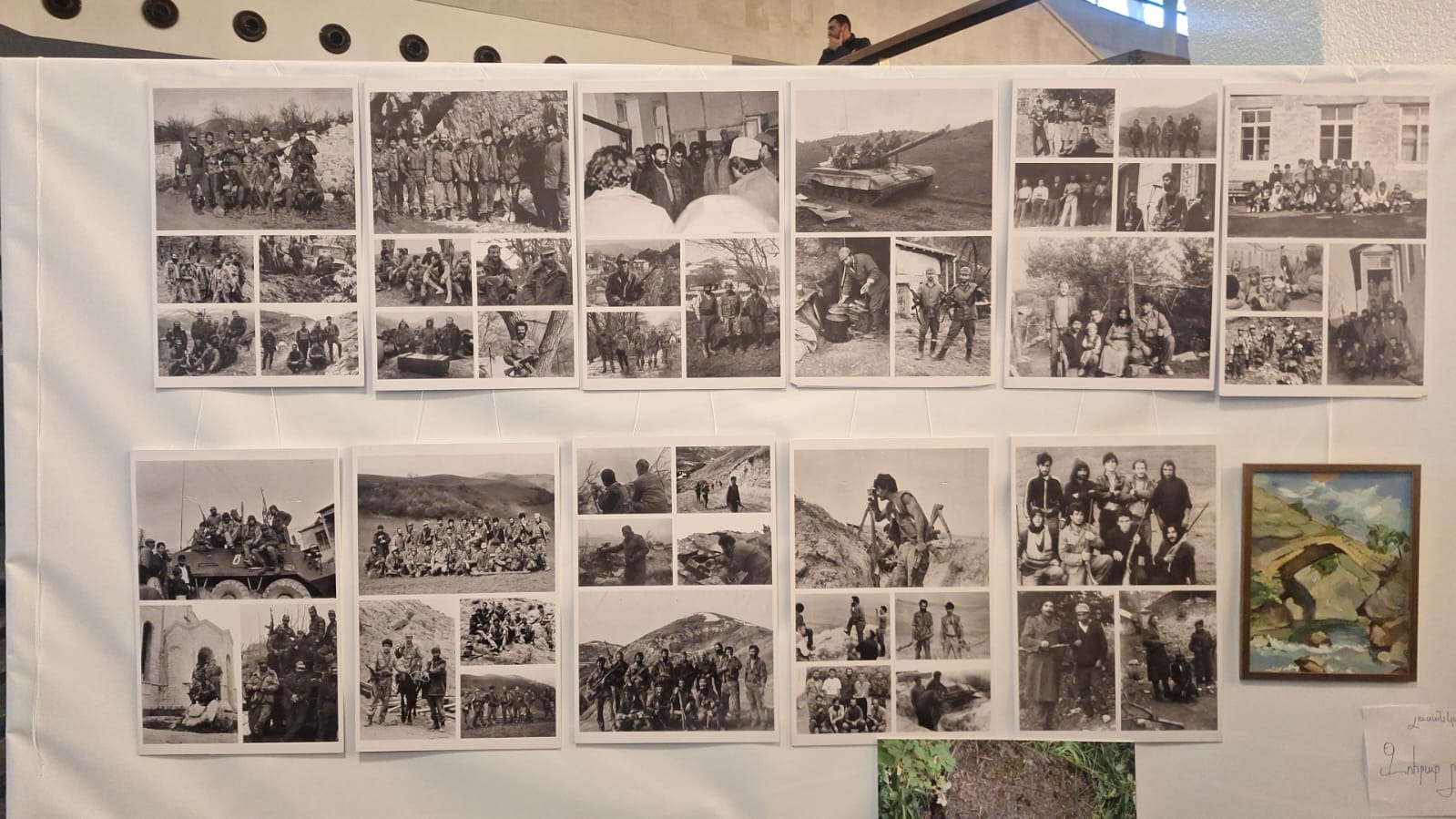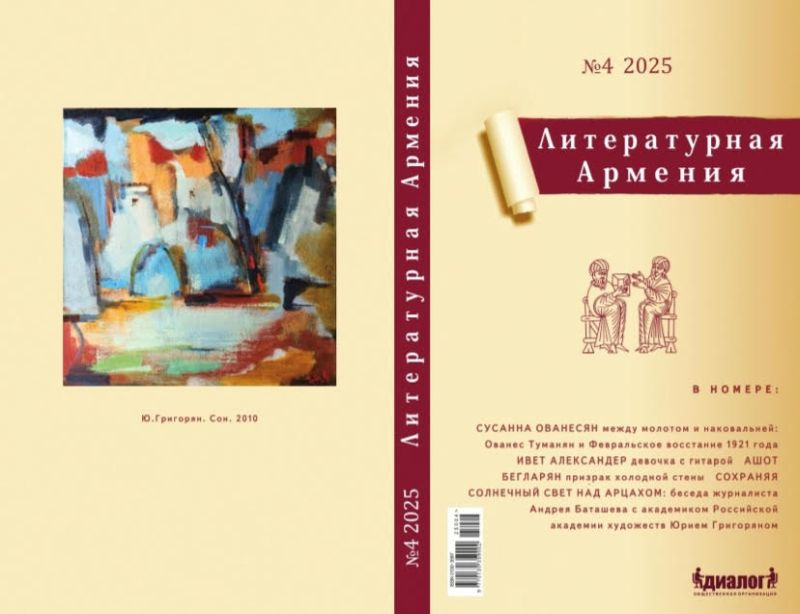Юрий Трифонов… В советское время его творчество было глотком свежего воздуха. Помню, в студенческие годы я получила автоматический зачет только за то, что читала «Дом на набережной». А помнят ли сейчас мастера городской прозы? С этим вопросом я обратилась к дочери писателя – Ольге Трифоновой-Тангян, которая последние годы живет в Дюссельдорфе. Впрочем, она рассказала не только о своем знаменитом отце, но и о не менее известных родственниках.
– Иногда действительно раздаются голоса, что «советский писатель» Юрий Трифонов устарел. Нет больше необходимости в обмене квартир, пропали очереди в магазинах. Но ведь автор писал о том, как люди реагируют на те или иные вызовы судьбы. А тут мало что изменилось. Люди остались прежними, да и Москва все та же. А угроза терроризма, описанная в романе Трифонова о народовольцах «Нетерпение» (1973), становится все более реальной. Недавно одна старшеклассница сообщила мне, что на проходившей в этом году в Москве Всероссийской олимпиаде по литературе ученикам 9–11 классов было предложено разобрать рассказ Трифонова «Голубиная гибель». Так что Трифонова не забывают.
– Какая атмосфера царила в семье Юрия Валентиновича? Кто из известных писателей был вхож в ваш дом, с кем из них папа дружил?
– Трифонов работал в первую половину дня. Вторая часть дня посвящалась деловым встречам и общению с друзьями. Отец очень любил своих друзей, и ему с ними повезло. В основном это были бывшие студенты Литинститута, некоторые из них послужили прообразами персонажей первого романа Трифонова «Студенты» (1950). Послевоенное поколение писателей и поэтов было удивительно талантливым, все были единомышленниками. Те, кто прошел войну и чьи родители были репрессированы в 37-м году, одинаково ждали «оттепели». Вместе с Трифоновым в Литинституте учились поэты Константин Ваншенкин, Инна Гофф, Евгений Винокуров, переводчица армянской поэзии Елена Николаевская, поэт и автор песен к кинофильмам Григорий Поженян, прозаики Григорий Бакланов, Юрий Бондарев. Писатель Макс Бременер как-то сказал о Трифонове: «Никогда не думал, что моим любимым писателем будет мой же однокурсник».
После выхода в свет повести «Дом на набережной» в 1976 году Трифонов приобрел мировую известность. Его дом стали посещать иностранные корреспонденты и литературоведы, у него без конца брали интервью, писали исследования о его творчестве. Его приглашали за границу с выступлениями, номинировали на разные премии. Круг его общения очень расширился. Например, он стал сотрудничать с Юрием Любимовым, который поставил в театре на Таганке два спектакля по его произведениям «Обмен» и «Дом на набережной».
 – Ваша мама была оперной певицей. К сожалению, вы рано ее лишились…
– Ваша мама была оперной певицей. К сожалению, вы рано ее лишились…
– У моей мамы Нины Нелиной было все для того, чтобы она была счастливой, но она умерла в 43 года. Это так несправедливо! Недаром в народе говорят: «Не родись красивой…» У мамы было редкое сочетание красоты и таланта. Творческая судьба Нелиной поначалу складывалась легко и удачно. В возрасте 7 лет ее приняла в свою школу Елена Гнесина, которая лично отбирала способных детей. Она стала обучаться игре на пианино. Во время игры она напевала, тогда обратили внимание на то, что у нее хороший голос. В 18 лет она закончила школу Гнесиных по двум дисциплинам – фортепиано и вокала. Потом началась война, в эвакуации в Ташкенте она поступила в находившуюся там Ленинградскую консерваторию. Опять училась по двум дисциплинам. После войны год работала в московской оперетте, затем год в Киевской опере. И в 23 года Нелина уже выступала на сцене Большого театра, дебютировав в роли Розины в «Севильском цирюльнике» Россини. В работе над первой ролью ей помогала Валерия Барсова. Премьера прошла на редкость успешно, было много отзывов в газетах, ей была посвящена большая статья в журнале «Смена» (1948) – «Самая молодая Розина».
Проработав 11 лет солисткой Большого театра (колоратурное сопрано), Нелина, устав от сценических стрессов, театрального злословия и непрерывных интриг, перешла в Росконцерт. Она стала хуже себя чувствовать, начались сердечные приступы. Несколько раз к нам ночью приезжала неотложка. Моя бабушка Полина Мамичева во всем винила Трифонова – невнимательный муж и прочее. Пеняла и на меня – зачем артистке был нужен ребенок? В чем-то она была права. В тот период мама была главным «кормильцем» в семье, мое рождение добавило ей забот, а отец помогал ей мало, оставлял надолго одну, недостаточно о ней заботился. Внешне он казался мягким и интеллигентным, но по существу был эгоцентриком. В какой-то момент она решила отдохнуть и подлечиться на литовском курорте Друскининкай. Ей хотелось побыть одной. Но либо лечение было неправильно подобрано, либо были другие сопутствующие обстоятельства, но внезапно она скончалась. Так печально и драматично закончилась ее жизнь.
 Отца вызвали в Друскининкай телеграммой. Началось страшное время, которое проходило передо мной, как во сне. Похороны мамы, бабушкины истерики и обвинения в адрес отца, его полная потерянность, иногда несдержанное поведение. Очень помогали старые друзья, всегда кто-то из них находился с ним рядом. В одном письме Трифонова мне попались такие строки: «Жизнь меня ударила так, что я еле на ногах устоял… Только дочь связывала меня». В тот период у нас с отцом установились особые отношения, мы понимали друг друга без слов. Я стояла за отца горой, из-за него часто ссорилась с бабушкой и дедушкой, «стариками», как он их называл. Своего тестя – художника Нюренберга – он еще уважал и жалел, а бабушку Полину не переносил. Это было взаимно. Бабушка имела сложный характер, но я ей сочувствовала. Она потеряла единственную дочь, ради которой пожертвовала своей карьерой балерины и художницы, потратив все силы сначала на ее музыкальное образование, а затем на мое воспитание, пока мама работала.
Отца вызвали в Друскининкай телеграммой. Началось страшное время, которое проходило передо мной, как во сне. Похороны мамы, бабушкины истерики и обвинения в адрес отца, его полная потерянность, иногда несдержанное поведение. Очень помогали старые друзья, всегда кто-то из них находился с ним рядом. В одном письме Трифонова мне попались такие строки: «Жизнь меня ударила так, что я еле на ногах устоял… Только дочь связывала меня». В тот период у нас с отцом установились особые отношения, мы понимали друг друга без слов. Я стояла за отца горой, из-за него часто ссорилась с бабушкой и дедушкой, «стариками», как он их называл. Своего тестя – художника Нюренберга – он еще уважал и жалел, а бабушку Полину не переносил. Это было взаимно. Бабушка имела сложный характер, но я ей сочувствовала. Она потеряла единственную дочь, ради которой пожертвовала своей карьерой балерины и художницы, потратив все силы сначала на ее музыкальное образование, а затем на мое воспитание, пока мама работала.
– Как сложилась ваша жизнь после смерти матери в 1966 году?
– Мне было 14 лет. Отец часто отсутствовал, и я была предоставлена самой себе. Из-за полного отсутствия дисциплины я неважно училась в школе, прогуливала уроки, нерегулярно питалась, много времени проводила за беспорядочным чтением и общением с подругами. Отец меня не перегружал заботой, но живо откликался, когда я его о чем-то просила. Немного подтянулась я только в университете. Тогда увлеклась американской литературой, писала диплом о Джоне Апдайке.
Когда в 1975 году мне исполнилось 24 года, я вышла замуж за АндраникаТангяна. Он закончил физико-математическое, я филологическое отделение МГУ. Вскоре родилась наша старшая дочь Катя. Отец был доволен, что вырастил меня и что я зажила самостоятельно. Теперь он мог свободно распоряжаться собой. Он оценил мой выбор и справедливо считал, что я попала в хорошую семью – мой свекор Семен Тангян был заместителем Генерального директора ЮНЕСКО в Париже, свекровь Августа Тангян – преподавателем испанского языка. С другой стороны, он немного ревниво относился к моему мужу. Очень уж легко я ушла от отца, поменяв девичью фамилию Трифонова на Тангян. По-моему, это его слегка задело. Но мне тогда хотелось создать свою семью. Вскоре у нас родилась вторая дочь Нина. У отца же началась другая жизнь, и мы стали общаться намного реже. А наш сын Миша родился уже много позже. В 1990 году мы всей семьей поехали в Германию, там мужу предложили работу, и мы остались. Но это уже совсем другая история.
 – Расскажите о вашем замечательном дедушке-художнике.
– Расскажите о вашем замечательном дедушке-художнике.
– Амшей Нюренберг был родом с Украины, образование получил в Одесском художественном училище. Из Одессы в 1911 году он отправился изучать искусство в Париж. Примкнул к группе талантливых новаторов, многие из которых были тоже выходцами из Российской империи. Делил год мастерскую в фаланстере художников «Ля Рюш» с Марком Шагалом. Так образовалась дружба, которая, под конец немного в одностороннем порядке, но сохранялась им всю жизнь. Нюренберг жил в Париже дважды – до и после революции, в первый раз как свободный художник, а во второй – как «культурный посол», командированный Луначарским после восстановления дипломатических отношений с Францией. Отсюда несомненное влияние французской живописи на его творчество. Между двумя парижскими периодами он возглавил группу одесских «независимых» художников, потом был комиссаром искусств в Одессе, работал у Маяковского в Окнах РОСТА, основал московскую художественную группу «Нож» и преподавал во ВХУТЕМАСе. В конце 1920-х годов Нюренберг вместе с женой Полиной Мамичевой, которая была москвичкой, окончательно обосновался в Москве. Он продолжал активно работать и явился одним из организаторов МОССХа (Московская организация Союза советских художников). Искусствоведческая и литературная деятельность тоже занимала его всю жизнь. Нюренберг был активным человеком и большим оптимистом.
Когда я вышла замуж, мои бабушка с дедом были уже очень старыми. Но они тепло отнеслись к моему мужу. Андраник сам интересовался искусством, а кроме того, старался им помочь в бытовом плане. Меня это радовало, так как в некотором смысле мой муж компенсировал их плохие отношения с зятем. В конце жизни Нюренберга беспокоил вопрос о судьбе своих работ. Большую часть картин, рукописей, архивных документов и фото он сам распределил по музеям и запасникам Москвы и Украины. Но некоторые работы у него оставались, и он опасался, что они могли пропасть. Он просил моего мужа позаботиться о его наследии.
Нюренберг умер в возрасте 91 года. Часть его ранних работ я передала в музей Нукуса им. Савицкого (Узбекистан), где собрана вторая по значимости коллекция русского авангарда. Удалось опубликовать полную книгу его мемуаров «Одесса–Париж–Москва» (2010) и сделать интернет-страницу www.amshey-nurenberg.com. Кроме того, я опубликовала несколько статей о Нюренберге, используя архивные документы. Мне кажется, он был бы доволен тем, что мы для него делаем.