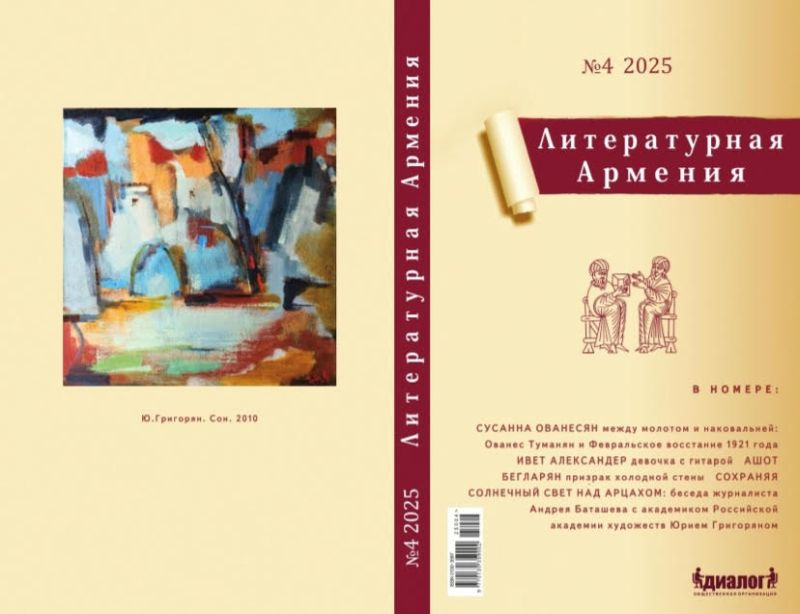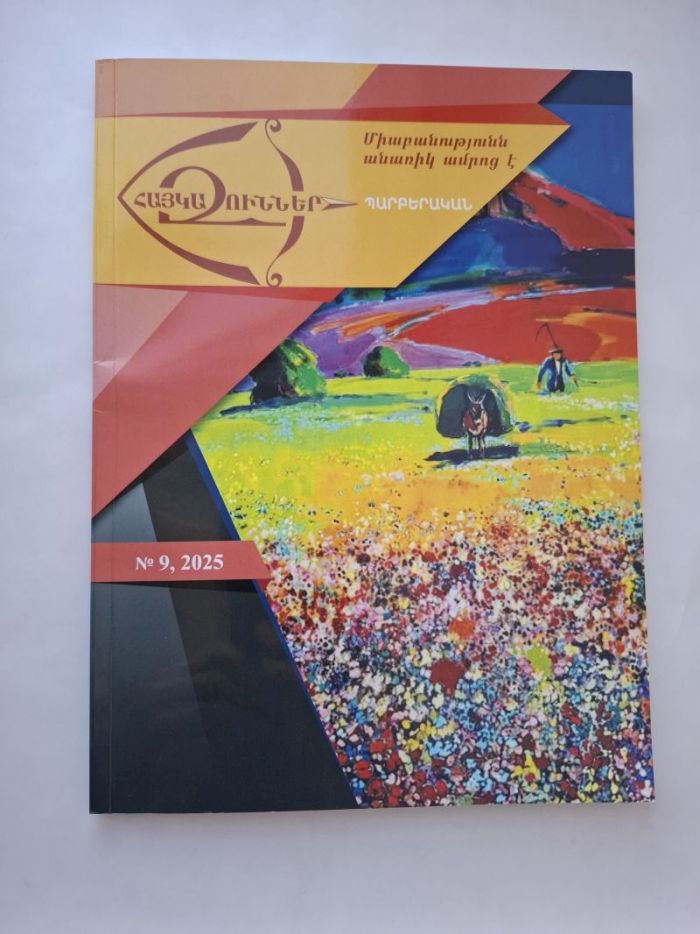Известный актер и отчасти режиссер Эмиль Яннингс высказал как-то кажущую парадоксальной мысль: «Чем старше мы становимся, тем труднее живем и легче работаем». Очевидно, такая оценка человеческих возможностей применима лишь по отношению к людям одаренным, к коим, несомненно, принадлежал видный искусствовед, старший научный сотрудник Ростовского областного музея изобразительных искусств, методист-координатор регионального объединения художественных музеев Юга России, почетный член Российской академии художеств Валерий Рязанов, которого не стало три года назад. До конца жизни он увлекал трудолюбием, аккуратностью, системностью, способностью восхищаться. Вся его сознательная жизнь была одним из непрекращающихся сражений за сохранение культурного наследия не только российских художников, но и донских армян.
 СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ДЕЛАЛ ВАЛЕРИЙ РЯЗАНОВ НА ЭТОМ ПОПРИЩЕ, КАЖЕТСЯ, НЕ ПО СИЛАМ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. Он — автор множества печатных изданий, монографических книг и альбомов, каталогов, журнальных статей, обзоров, посвященных искусству Дона, Северного Кавказа, зарубежья. Он выводил на свет Божий из небытия имена незаслуженно забытых художников, устраивал выставки, составлял альбомы. Признанный специалист по русскому искусству XVIII—XX веков в процессе плодотворной научно-исследовательской работы Валерий Рязанов ввел в научный оборот целый ряд имен не только русских, но и зарубежных художников, чьи живописные произведения ранее считались полотнами «неизвестных авторов». Отдельной темой его научных интересов была деятельность донских художников и педагогов, а также популяризация таких забытых имен, как А.Чиненов, первый иллюстратор Тихого Дона М. Шолохова – С.Корольков, художник-исследователь Д.Федоров. У Валерия Рязанова было множество наград и званий, среди которых и медаль Министерства Диаспоры Республики Армения «Аршил Горки».
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ДЕЛАЛ ВАЛЕРИЙ РЯЗАНОВ НА ЭТОМ ПОПРИЩЕ, КАЖЕТСЯ, НЕ ПО СИЛАМ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. Он — автор множества печатных изданий, монографических книг и альбомов, каталогов, журнальных статей, обзоров, посвященных искусству Дона, Северного Кавказа, зарубежья. Он выводил на свет Божий из небытия имена незаслуженно забытых художников, устраивал выставки, составлял альбомы. Признанный специалист по русскому искусству XVIII—XX веков в процессе плодотворной научно-исследовательской работы Валерий Рязанов ввел в научный оборот целый ряд имен не только русских, но и зарубежных художников, чьи живописные произведения ранее считались полотнами «неизвестных авторов». Отдельной темой его научных интересов была деятельность донских художников и педагогов, а также популяризация таких забытых имен, как А.Чиненов, первый иллюстратор Тихого Дона М. Шолохова – С.Корольков, художник-исследователь Д.Федоров. У Валерия Рязанова было множество наград и званий, среди которых и медаль Министерства Диаспоры Республики Армения «Аршил Горки».
Как никто, Валерий Рязанов умел общаться с людьми, если видел в них своих единомышленников. Так, он долгие годы дружил с Шаэном Хачатряном, благодаря которому я и познакомилась с этой уникальной личностью.
Право на особую любовь армян он выстрадал давно. Много лет он посвятил истории, изучению и сбору материалов по изобразительному искусству армянского народа, культура которого более 200 лет назад нашла духовное единение с культурой Дона и России.
Размышляя о Валерии Рязанове, невольно вспоминаешь мандельштамовские строки: «Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься…». Со страниц своих исследований Валерий Рязанов предстает перед нами человеком с тревожным сердцем, болеющим за судьбу этого народа, его творцов. Он любил изобразительное искусство, художников, пробивал дорогу тем новым явлениям, которые не укладываются в рамки общепринятых норм. Обладая незаурядным темпераментом публициста, Рязанов заражал, увлекал своим мнением. Он умел находить художникам, их произведениям место в современном и историческом контексте и глубоко их анализировал.
В.Рязанов был пристрастен и любил повторять, что критик и должен быть пристрастным. Парадоксальность его мышления, широта его пристрастий не имели ничего общего со всеядностью; он неизменно отстаивал выношенные, выстраданные им принципы искусствоведа-критика, ученого, человека.
РЕДКАЯ СВОБОДА МЫСЛИ И СЛОВА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ОДАРЕННОСТЬ, живое чувство искусства, спокойная, уверенная объективность, талант наблюдения и талант общения с художниками — вот качества, отличающие научные труды и очерки Рязанова. О чем бы он ни писал — о выставках художников прошлого и настоящего, предисловия, статьи о проблемах изобразительного искусства, — все вызывает живой интерес. Со страниц его очерков перед нами оживают творчество и человеческая сущность деятелей искусства старших современников автора и молодых живописцев, скульпторов, только входящих в художественную жизнь. Он вникал в тайну их творчества с эрудицией историка, с профессиональным мастерством искусствоведа, с вдохновением и чувством поэта и, что важнее всего, с огромной любовью. Поэтому, исследуя тот или иной шедевр, он изучал не технологию создания, хотя во многих его обзорах есть и это, а социальную и психологическую стороны его рождения. В центре внимания Рязанова всегда был человек, ставший художником потому, что только в красках, в линиях он мог выразить свое отношение к миру, к окружающей его действительности.
Творчество многих донских художников прошлого и настоящего мы воспринимаем и осмысливаем во многом через призму рязановских изысканий и концепций. Помимо всего Рязанов дорог нам и тем, что возвращал нам забытые страницы истории изобразительного искусства Дона и России, дарил нам незаслуженно преданные забвению имена. И мы с удивлением и радостью узнаем благодаря В.Рязанову много нового о художниках, о которых, как нам казалось, знаем все: об Айвазовском с его прочной и глубокой связью с Ново-Нахичеванью-на-Дону, которая сохранилась до конца жизни великого мариниста, М.Сарьяне, ставшем символом XX века, малоизвестном сегодня Х.Гусикове (Гусикянце), учившемся в Академии художеств Санкт-Петербурга с Ильей Репиным, М.Аладжалове, воспитаннике знаменитых русских художников А.Саврасова, В.Маковского, И.Прянишникова, Амаяке Арцатбаняне — первом учителе М.Сарьяна, Сергее Гамбарцумове, незаслуженно забытых художниках — А.Анопьяне, А.Чарчопове, Н.Козодьяне, а также современных мастерах изобразительного искусства — О.Лусегенове, И.Хашхаяне и других. И всякий раз перед глазами читателя встает органически целостный и глубокий образ художника-творца.
С особой любовью и блеском написана книга «От первого приюта до наших дней», вышедшая более десяти лет назад в Ростове. Она мне была подарена искусствоведом Шаэном Хачатряном. Не знаю, как для других читателей (вряд ли ее знают многие, ибо в Армению, насколько мне известно, она не попала), но для меня книга стала откровением, открыла незнакомый материк, имена армянских мастеров, доселе неизвестных. Издание такого рода — первый опыт изучения и обобщения самобытного культурного наследия донских армян, и сложился он не только по праву старшинства, опыта и таланта автора книги. Валерий Рязанов был одним из тех художественных критиков, искусствоведов нашего времени, которые стали истинными хранителями духовных ценностей. Счастье его судьбы в том, что смолоду он ощутил себя хранителем культуры и таким остался до конца жизни. Почему-то уверена, что еще в те далекие годы в нем закалялись и утверждались усвоенные в юности нравственные ценности: и гражданская позиция, исключающая цинизм, дешевое критиканство и равнодушие — пороки, которые стали теперь чересчур распространенными.
ОТМЕЧЕННАЯ ВЫШЕ КНИГА РЯЗАНОВА – СЕРЬЕЗНОЕ, ГЛУБОКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, хотя и не претендующее на всю полноту отражения темы. Но тем не менее в ней — уникальный материал, исторические факты, достоверность которых не вызывает сомнений. Этот труд несет в себе сведения, создающие широкий контекст, — в плане биографическом, историческом и концептуальном. Это в интересах как истории армянского изобразительного искусства, так и читателя. Книга испещрена интересными историческими фактами, объясняющими многое в биографии и творчестве художников, о которых он пишет. Его целью было вырвать из забвения и удержать в памяти людей все то лучшее, что было сделано армянскими мастерами изобразительного искусства, создание целостного труда со строго и последовательно выверенными общими принципами, с определенной и продуманной логикой идей.
И такая книга действительно получилась — книга современная и яркая, живая и необычайно интересная. Умный и впечатляющий, с большим вкусом сделанный выбор художников, а также подлинная и безусловная серьезность и ценность связанного с этими художниками круга идей и размышлений превратили ее в весомое событие для всех нас. Наконец, эта книга — к сожалению, не столь уж часто в последние годы встречающийся образец настоящего профессионального мастерства. Мастерства человека, не случайно, между делом, занимающегося художественной критической деятельностью, а знающего особенности и возможности искусства критики, главного дела своей жизни.
Эта книга, как и многие его научные изыскания, войдет в историю армянской культуры. Потому что в ней отражается бурное, сложное время, в котором жили и творили эти армянские художники. Они и завтра останутся свидетелями эпохи со всеми ее противоречиями и «измами», без которых, впрочем, не обходится ни одна эпоха.