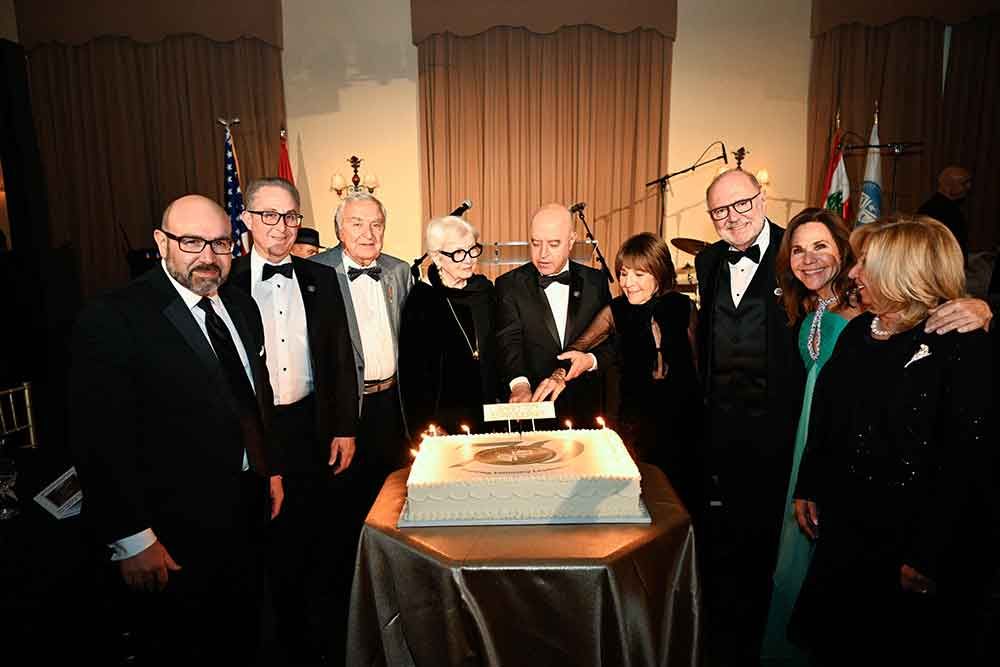Слава богу, эпоха понемногу начала собирать камни, то есть возвращать забытые имена. Давно пора. Тем более что забыты они были благодаря нерадивости шумной, безумно спешащей, небережной жизни. Гламурный треск и полное небрежение былыми культурными завоеваниями должны вообще смениться трепетным вниманием к талантливым именам ушедшей эпохи.
Я была еще молода (читай: неопытна), когда услышала в кафе Союза писателей стихотворение Ваагна Каренца о его собственной судьбе. То прежнее писательское кафе было фактически творческим клубом — доступным, выполнявшим благородную роль, служившим общению. Чашечка кофе и ты — лицом к лицу с дарованиями любого уровня. Но и крупные таланты не чурались общения с молодыми посетителями, влюбленными в искусство слова, вообще в искусство. Споры в подвальном кафе Союза писателей разгорались нешуточные.
Скромный коренастый поэт с неброской внешностью, придвинув мне чашечку кофе, вдруг очень проникновенно прочел по-армянски свое горькое стихотворение. Конечно, он надеялся на то, что я переведу стихи. За соседними столиками смолкли разговоры, все посетители обратились в слух. Я даже удивилась, ведь поэт — плохой слушатель поэта.
Читал Каренц не очень театрально, даже, я бы сказала, приглушенно и застенчиво, но стихотворение было прекрасным. И, ясное дело, я перевела его.
Что я вам дал и в чем
я подотчетен вам?
Нет у меня дворцов,
славы и злата нет.
Как-нибудь я уйду,
так же, как Абовян,
И не найдут вовек
мой незаметный след.
Я навсегда уйду
ранним весенним днем,
И не откроют вам
тайну последних мук
Этот пустынный стол,
тихий замолкший дом
Или прощальных слов
скорбный ненужный звук.
Я унесу с собой
все, что за жизнь постиг —
Пламень начальных строк,
горечь последних ран,
Я не оставлю вам
грустных великих книг,
Как оставляли их
Гейне, Исаакян.
Я захвачу с собой
горстку надежд земли,
Тихо уйду в поля,
в буйный весенний пир.
И, как неяркий свет,
я растворюсь вдали:
Густ по весне туман
и необъятен мир.
Стихотворение захватывало музыкой и соотнесенностью с судьбой Хачатура Абовяна, ушедшего и не вернувшегося, как известно, весной. Но Ваагн Каренц не сравнивал себя с Абовяном, почему и говорил о «незаметном следе». Он говорил о сходной судьбе почти всех поэтов.
Каренц заведовал отделом поэзии в журнале «Советакан граканутюн». Кондовое советское название. Но печатались в журнале замечательные стихи — тогда таковые еще писались. Подборки Амо Сагияна, Маро Маркарян, Ваагна Давтяна, Сильвы Капутикян, Геворга Эмина, Рачия Ованесяна и многих других талантливых известных поэтов. Так что название кондовое, но поэзия в журнале водилась. Сегодня названия не кондовые, жаль только, поэзии почти нет.
Конечно, обойтись только одним, пусть и прекрасным, стихотворением я не могла, и Ваагн предложил мне на выбор еще несколько своих стихов. Среди них были и стихи о первой влюбленности. И опять проникновенные, музыкальные, грустные.
Я иду, а в душе
не утихла печаль,
Снова вспомнился
сон золотой.
И зовет это утро
весеннее вдаль,
Так открой свою дверь
предо мной.
Я лишь путник,
у всех у нас доля одна:
Мы всегда на виду
у беды.
Из кувшина налей
мне немного вина,
Принеси мне
студеной воды.
Мне тот старый потертый
ковер расстели,
У порога сидеть я любил,
Чтоб смотреть на ягнят,
что пасутся вдали
У заброшенных старых могил.
Я полями пришел,
но не встретил в пути
Ни цветов, ни былой аромат.
Возврати мне влюбленность,
те дни возврати,
Все, чем был я когда-то богат.
Как чутко слушал Каренц мои переводы, как радовался тому, что почти все его мысли и образы остались на месте, как благодарен был мне за мое старание. «А о Комитасе переведешь?» Я утвердительно кивнула, хотя о Комитасе мало что тогда знала. Но вот перевела и узнала больше, перевод — это ведь тоже школа. Какая разница откуда черпать знание!
Комитас
Ты наших песен душа,
Прекрасных снов колыбель.
Ты — под замшелой скалой
Родник в горах и купель.
Исток тех песен глубок,
Печаль ясна и светла,
У самых древних певцов
Она окраску брала.
Полей Тарона разлив
И Муша сонный туман
Встают в напевах твоих,
Высокий скорбный гусан.
И все летят журавли
В святую Землю отцов
И перепелки в полях
Не молкнет горестный зов.
Чисты истоки души,
Которой дар этот дан,
Как плуг на пашне седой,
Или молитвы армян.
Народ те песни создал,
А ты был крестным отцом,
Ты имя дал им, они
Живут в напеве твоем.
И длится, длится мечта
В прекрасной песне твоей,
И над полями плывет
Косяк родных журавлей.
Бездомный грустный монах,
Теперь обрел ты приют,
Поешь ты в каждой душе,
А песни долго живут…
«Я не оставлю вам грустных великих книг». Великих книг он не оставил. Но его камерная проникновенная лирика все же осталась жить. А чем это не след на земле!
Скромный коренастый поэт с неброской внешностью, придвинув мне чашечку кофе, вдруг очень проникновенно прочел по-армянски свое горькое стихотворение. Конечно, он надеялся на то, что я переведу стихи. За соседними столиками смолкли разговоры, все посетители обратились в слух. Я даже удивилась, ведь поэт — плохой слушатель поэта.
Читал Каренц не очень театрально, даже, я бы сказала, приглушенно и застенчиво, но стихотворение было прекрасным. И, ясное дело, я перевела его.
Что я вам дал и в чем
я подотчетен вам?
Нет у меня дворцов,
славы и злата нет.
Как-нибудь я уйду,
так же, как Абовян,
И не найдут вовек
мой незаметный след.
Я навсегда уйду
ранним весенним днем,
И не откроют вам
тайну последних мук
Этот пустынный стол,
тихий замолкший дом
Или прощальных слов
скорбный ненужный звук.
Я унесу с собой
все, что за жизнь постиг —
Пламень начальных строк,
горечь последних ран,
Я не оставлю вам
грустных великих книг,
Как оставляли их
Гейне, Исаакян.
Я захвачу с собой
горстку надежд земли,
Тихо уйду в поля,
в буйный весенний пир.
И, как неяркий свет,
я растворюсь вдали:
Густ по весне туман
и необъятен мир.
Стихотворение захватывало музыкой и соотнесенностью с судьбой Хачатура Абовяна, ушедшего и не вернувшегося, как известно, весной. Но Ваагн Каренц не сравнивал себя с Абовяном, почему и говорил о «незаметном следе». Он говорил о сходной судьбе почти всех поэтов.
Каренц заведовал отделом поэзии в журнале «Советакан граканутюн». Кондовое советское название. Но печатались в журнале замечательные стихи — тогда таковые еще писались. Подборки Амо Сагияна, Маро Маркарян, Ваагна Давтяна, Сильвы Капутикян, Геворга Эмина, Рачия Ованесяна и многих других талантливых известных поэтов. Так что название кондовое, но поэзия в журнале водилась. Сегодня названия не кондовые, жаль только, поэзии почти нет.
Конечно, обойтись только одним, пусть и прекрасным, стихотворением я не могла, и Ваагн предложил мне на выбор еще несколько своих стихов. Среди них были и стихи о первой влюбленности. И опять проникновенные, музыкальные, грустные.
Я иду, а в душе
не утихла печаль,
Снова вспомнился
сон золотой.
И зовет это утро
весеннее вдаль,
Так открой свою дверь
предо мной.
Я лишь путник,
у всех у нас доля одна:
Мы всегда на виду
у беды.
Из кувшина налей
мне немного вина,
Принеси мне
студеной воды.
Мне тот старый потертый
ковер расстели,
У порога сидеть я любил,
Чтоб смотреть на ягнят,
что пасутся вдали
У заброшенных старых могил.
Я полями пришел,
но не встретил в пути
Ни цветов, ни былой аромат.
Возврати мне влюбленность,
те дни возврати,
Все, чем был я когда-то богат.
Как чутко слушал Каренц мои переводы, как радовался тому, что почти все его мысли и образы остались на месте, как благодарен был мне за мое старание. «А о Комитасе переведешь?» Я утвердительно кивнула, хотя о Комитасе мало что тогда знала. Но вот перевела и узнала больше, перевод — это ведь тоже школа. Какая разница откуда черпать знание!
Комитас
Ты наших песен душа,
Прекрасных снов колыбель.
Ты — под замшелой скалой
Родник в горах и купель.
Исток тех песен глубок,
Печаль ясна и светла,
У самых древних певцов
Она окраску брала.
Полей Тарона разлив
И Муша сонный туман
Встают в напевах твоих,
Высокий скорбный гусан.
И все летят журавли
В святую Землю отцов
И перепелки в полях
Не молкнет горестный зов.
Чисты истоки души,
Которой дар этот дан,
Как плуг на пашне седой,
Или молитвы армян.
Народ те песни создал,
А ты был крестным отцом,
Ты имя дал им, они
Живут в напеве твоем.
И длится, длится мечта
В прекрасной песне твоей,
И над полями плывет
Косяк родных журавлей.
Бездомный грустный монах,
Теперь обрел ты приют,
Поешь ты в каждой душе,
А песни долго живут…
«Я не оставлю вам грустных великих книг». Великих книг он не оставил. Но его камерная проникновенная лирика все же осталась жить. А чем это не след на земле!