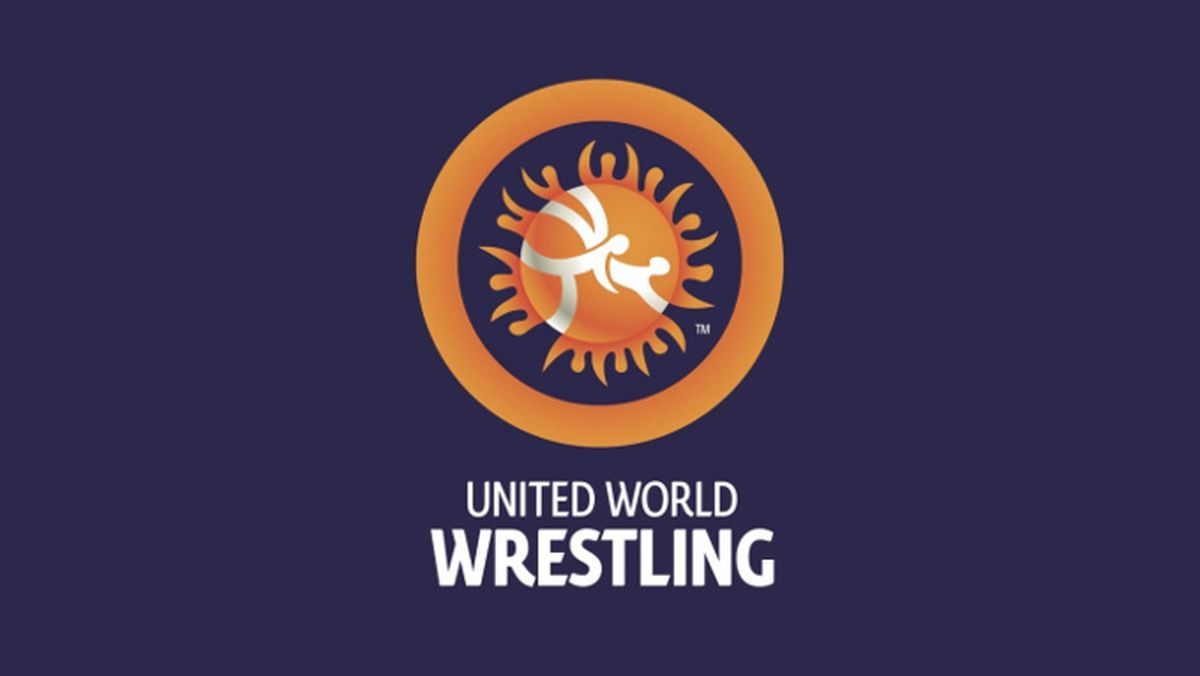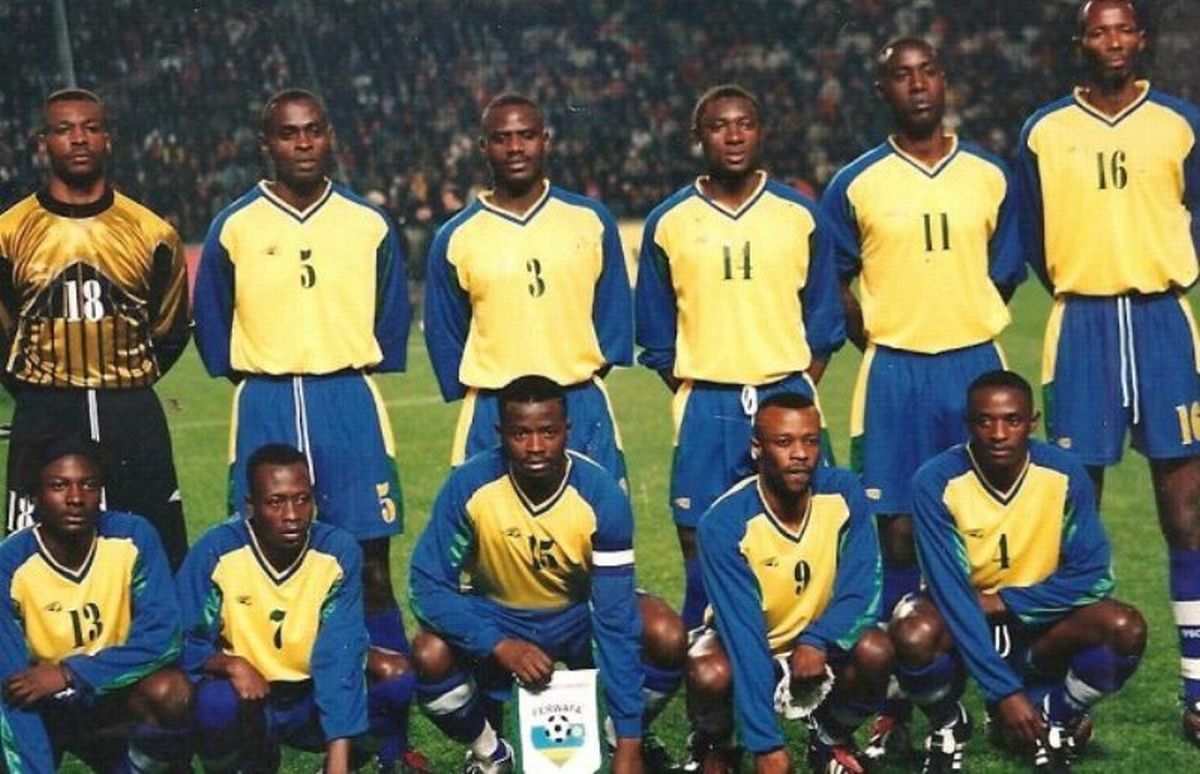говорит в интервью "ГА" директор Ереванского государственного театра кукол им.Ов.Туманяна Рубен БАБАЯН
Ереванский государственный театр кукол им.Ов.Туманяна можно со спокойной совестью назвать одним из самых успешных. Возможно, потому, что его первый человек — кстати, директор, как и предписывает нынешний закон, а не худрук — умеет и едва Госпремию не получивший спектакль поставить, и молодежи давать возможность заниматься творческим поиском, и госчиновникам не давать покоя, стремясь постоянно обновлять техническую базу театра, и в строительные вопросы вникать. Наша беседа с уезжающим с театром на гастроли Рубеном БАБАЯНОМ началась с вопроса для директора наиболее животрепещущего — с ремонта-переоборудования театральной котельной.
— В 1975 году было построено это здание, и первые два этажа отданы театру. Тогда площади вполне хватало — маленький театр с 7-8 кукольными спектаклями. Сегодня в нашем репертуаре порядка 35 спектаклей и кукольных, и драматических. К тому же театр занимается широкой культурной деятельностью, на нашей площадке проходят фестивали, рок-концерты. Конечно, располагаться на первых двух этажах жилого здания — это не лучшее, что можно пожелать театру: если на тринадцатом этаже лопнула труба, то это все на нашу голову. Но и в этих условиях мы стараемся держать планку. В 2002 году по программе LINCY нам отремонтировали котельную, которая после тридцати трех лет пребывания на балансе мэрии была передана нам. Мы получили не только сертификат собственника, но и обязательство содержать ее в нормальном состоянии. Она ремонтировалась без нашего ведома, и ремонт был проведен с некоторыми нарушениями. Главное из них — это крыша, которая уже протекает не только потому, что плохо изолирована — там растет всякая травка. Это очень опасно. Это же газ! Если вдруг что, пострадает не только театр, но и жильцы дома, поскольку котельная находится во дворе. И мы обратились в мэрию с целью убить сразу двух зайцев — укрепить крышу и построить над ней складское помещение, где можно будет хранить декорации, куклы и прочее, т.к. в наших хозяйственных помещениях уже повернуться негде. Мэрия пошла нам навстречу, дала разрешение. Театр вложил серьезные деньги, заказал проект. Жильцы дома, кажется, не возражают — за эти годы они в какой-то мере ощущают причастность к жизни театра. Я надеюсь, что в конце года театр несколько задышит, разгрузится.
— А что насчет нехозяйственной жизни театра?
— Мы вернулись из Измира, где на международном фестивале показывали "Сказку, упавшую с небес". Прием превзошел все ожидания. Там были представлены 12 театров. Сочли, что лучшими были русские, французы и мы. 11 апреля в программе "Маска+" всероссийской "Золотой маски" показали в Москве спектакль Нарине Григорян "Полет над городом". Тоже очень приятно — второй год подряд театр приглашают на этот престижный фестиваль. В мае нас ожидает Сербия, Суботица. А буквально два дня назад я получил приглашение из Венгрии: узнав, что мы будем в Суботице, они предлагают за их счет проделать еще сорок километров, чтобы принять участие и в их фестивале. В этом сезоне мы уже сдали два спектакля, думаю, до конца года будут еще три.
— Это все прекрасно, но вот бытует мнение, что ТЮЗ и Кукольный должны работать на детей, а не экспериментировать по разным направлениям…
— Я не думаю, что эти претензии оправданны. Скажем, когда московский ТЮЗ возглавила Яновская и стала делать не только спектакли для детей, это только повысило престиж театра. А кукольный театр — это вид театрального искусства, а не театр для детей. В Европе кукольные театры в основном для взрослых. Хотя лично я считаю работу для детей очень важной, и процентов восемьдесят нашего репертуара именно для них. Но поскольку это вид театрального искусства, считаю, что нам необходимо иметь и другие постановки. Более того, для актерского роста просто необходимо играть в разных спектаклях и для разной зрительской аудитории. И мы участвуем не только в кукольных фестивалях, но и драматических, экспериментальных. Ну и потом скудость в Ереване театров, хотя это и столица, заставляет каждый театр брать на себя дополнительные функции.
 — Скудость?! Нам же постоянно твердят, что театров слишком много, и все на шее государства.
— Скудость?! Нам же постоянно твердят, что театров слишком много, и все на шее государства.
— Во-первых, в Ереване нет ни одного государственного театра. "Государственный" — это полная дотация за счет государства, а ее не имеют даже Оперный или им.Сундукяна. Мы получаем субсидию, а ее можно давать и частному театру. Более того, об излишке можно было бы говорить в том случае, если бы в Армении существовало законодательство, стимулирующее появление частных коммерческих театров. Я имею в виду не антрепризу, а маленькие подвальчики на 50-70 мест, где проводились бы самые интересные театральные поиски. Без поиска новых форм театр не существует. У нас есть закон, предписывающий, какие могут быть театры и прочее, но, судя по тому, что никто им не пользуется, новые театры не возникают, а значит, это мертвая часть закона. То же самое происходит с библиотеками, концертными залами, галереями, которые просто не появляются. А если и появляются, то пути их возникновения не отличаются от путей возникновения любой другой коммерческой структуры. Так что я не считаю, что театров много, особенно если учитывать количество людей, которые хотят работать в театре.
— А если учитывать количество людей, которые не хотят ходить в театр?
— Даже при той, скажем так, культурной ситуации, которая у нас существует, все равно найдутся сто человек, которые придут смотреть интересную форму. Это количество оправданное. Когда мы приводим примеры из жизни театрально развитых стран, мы забываем, что их большие залы процентов на семьдесят заполняются туристами. Контингент своего зрителя никогда не бывает очень высок. Трагедии в этом я не вижу. Мне намного интереснее посмотреть спектакль среди сотни людей, которых объединяют какие-то определенные вкусы и взгляды, чем в тысячном зале, где собраны кто угодно и где театр пытается удовлетворить вкусы большинства. Наша антреприза — лучший тому пример. И не надо противопоставлять ее каноническому театру. Не надо решать проблемы одних за счет других. То же самое происходит в музыке. Ведь если руководствоваться понятием "заполняемость зала", то нужно запретить концерты классической музыки и жить за счет попсы и рабиса. Они работают на количество, мы, простите, — на качество. Причем и на качество публики.
— Международный День театра стал для некоторых людей поводом в очередной раз оповестить о том, что театр умер. Как вы к этому относитесь?
— Меня в высказывании подобных мнений коробит только одно — безапелляционность. Возможно, это выгодная позиция — одновременно судьи и могильщика — но в любом случае она немного мальчишеская. Отрицанием всего занимаются обычно подростки. Во-первых, диагноз "театр умер" ставится на протяжении последних двух тысяч лет. Те, кто так говорит, порой даже не подозревают, насколько точно и хорошо они характеризуют театр. Питер Брук заметил, что театр — это организм, который умирает ежесекундно. Любая смерть в искусстве вызывает новую жизнь. Другое дело, плохо, когда театр заболоченный, замороженный. Я-то думаю наоборот — появляются новые спектакли, появляются новые люди, причем очень интересные. Говорю и как человек, преподающий в институте.
Вот год назад я общался с известным английским актером, приехавшим сюда по приглашению Британского совета. Он рассказывал, что в Британии Шекспир регулярно переводится на современный английский язык. Ведь тот язык, на котором писал Шекспир для театра, был в его время очень и очень разговорным. И если мы об этом забываем, мы лишаем театр самого главного — общения со зрителем. Вот мы не позволяем осовременивать Сундукяна. И сколько знатоков тифлисского армянского языка может сегодня сидеть в зале? Театр, язык которого непонятен — это дурацкий театр. В литературе Грант Матевосян совершил революцию — создал язык литературный и разговорный одновременно. То же самое нужно сделать и в театре. Я не призываю к жаргону и похабщине, но язык должен быть понятный, современный.
— Но разве поспоришь с тем, что в плане технической оснащенности и профессиональных планок мы действительно отстаем безнадежно?
— Мы очень многое связываем с талантом. В годы учебы в ГИТИСе нам говорили: "Прекратите рассуждать о таланте, давайте говорить о ремесле". Местами талантливый спектакль, который построен неграмотно по композиции, а актер не знает выигрышные точки своего существования — это проблема. Посмотрите на американских актеров. Нужно сказать громко — он не сорвет голос, нужно пустить слезу — он не будет вспоминать ушедших из жизни родственников, он знает, как это технически сделать — пожелтеть, постареть, помолодеть. Это все техника. Не может сегодня быть актер, которому лишний вес мешает двигаться, у которого не развиты слух, пластика. И не в деньгах дело. Вопрос заключается не в том, что нужно дорого одевать исполнителя. Нужно одевать его эксклюзивно, даже если мы играем бытовую сцену. Все то, что выносится на сцену, должно быть в единственном варианте. Если все это можно спокойно купить в ближайшем магазине, тогда пропадает театр. Техническая оснащенность — это тоже сфера, которая постоянно требует обновления. В эпоху битломании, когда я учился в десятом классе пушкинской школы, мы пришли к директору и попросили, чтобы она купила набор инструментов для ансамбля. Она нам ответила гениально: "Пять лет назад купили контрабас — никто на нем не играет!" Время очень быстро меняется, особенно в плане техники. И если не хочешь, чтобы твой театр называли мавзолеем, за ним надо поспевать.