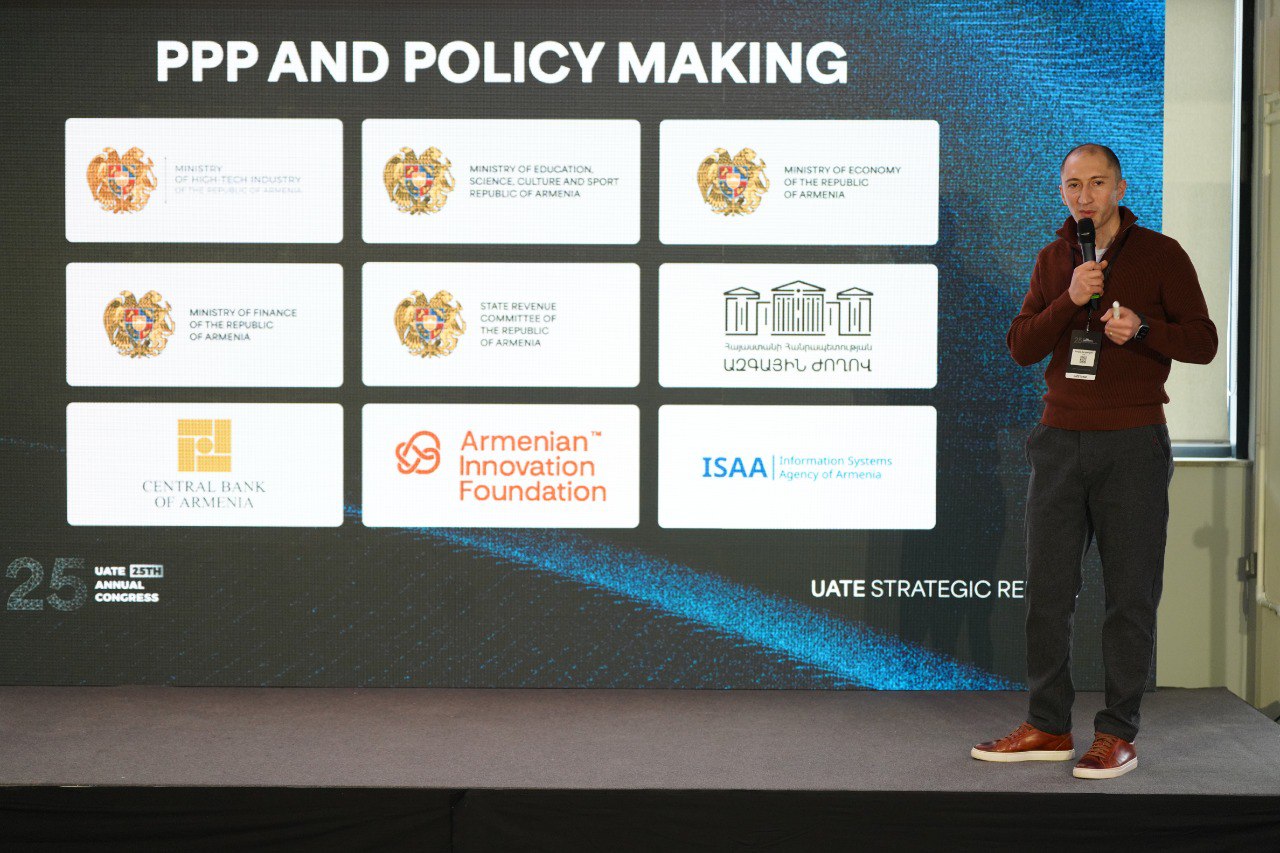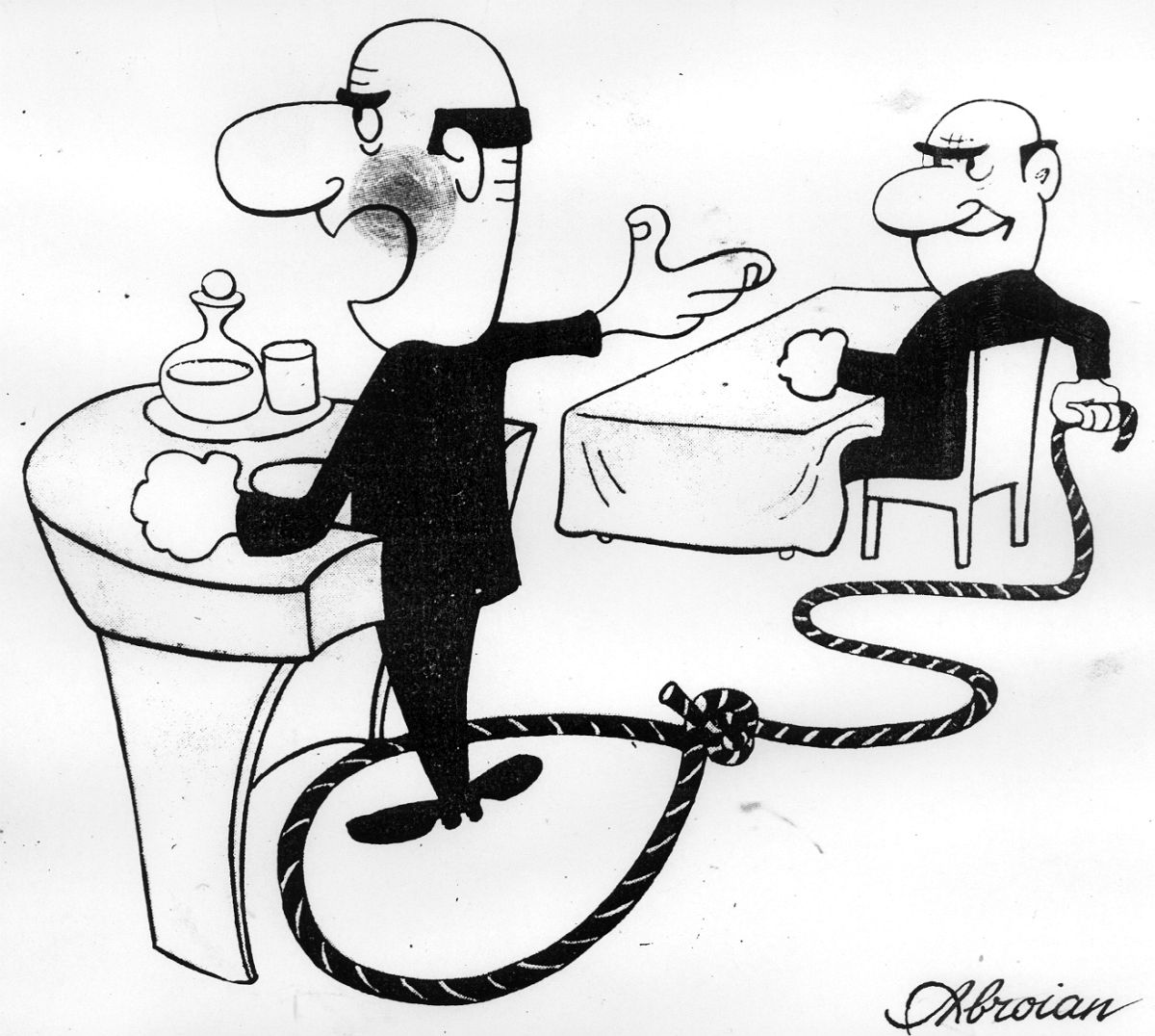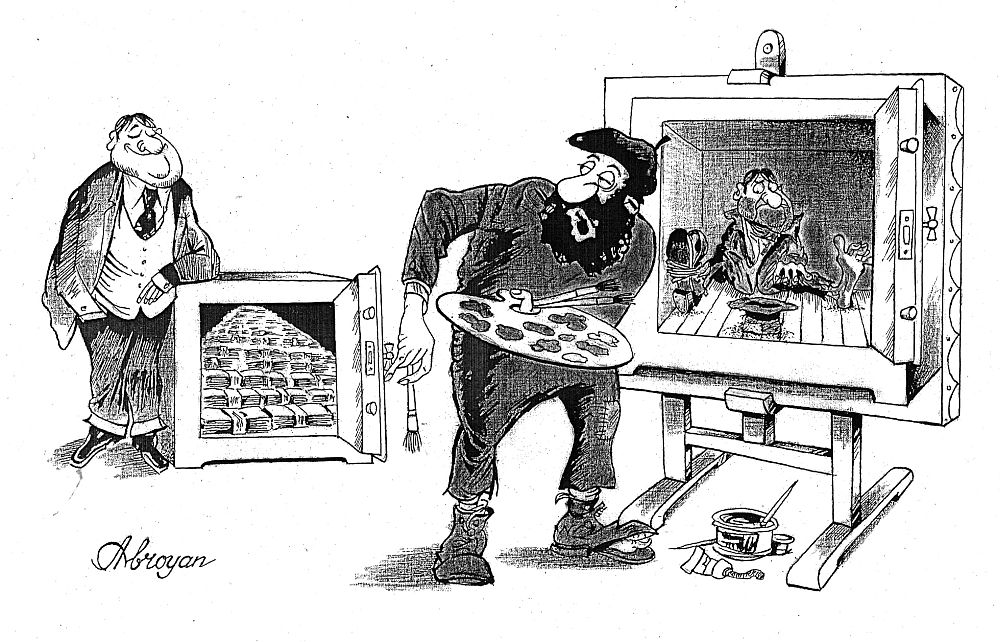Ваану АРЦРУНИ — 50! Нет, что-то все-таки не укладывается в привычные рамки, и не только возраст… «Цикл юбилейных концертов» — звучит пафосно и с юбиляром плохо вяжется. С другой стороны, по нашим временам юбилеи истинных интеллигентов, да еще с происхождением следовало бы торжественно отмечать, предварительно поместив юбиляра в заповедник, даже если они не являются деятелями культуры, композиторами, певцами, музыкантами с широчайшим кругом творческих интересов. А Ваан Арцруни является.
Пытаюсь вспомнить случаи, когда за уже порядочные годы общения мы встречались «по поводу»… По поводу фестиваля Gaudeamus… По поводу выпуска альбома с обработками и сборника стихов Комитаса… По поводу цикла ассирийской музыки… По поводу выхода диска с шараканами Месропа Маштоца в обработках Ваана Арцруни… По поводу совместного вечера с Размиком Давояном, на стихи которого написано столько замечательных песен… И еще десятки концертов, венцом которых на данном этапе станет заключительный в «юбилейном цикле», который состоится 25 декабря в Большом зале филармонии им. Арама Хачатуряна.
— Цикл юбилейных концертов под патронатом первой леди… И ты не избежал канонизации?
— До этого мне далеко. А первая леди дважды слушала меня вживую. Сначала это был один из «концертов в фойе», которые организовал Карен Дургарян. Через год Рита Александровна присутствовала на концерте, посвященном 145-летию Комитаса. Соответственно она знала, чем я занимаюсь. Наш разговор длился пятнадцать минут. Я объяснил концепцию пяти концертов, каждый из которых посвящен конкретному жанру, и мне был задан очень конкретный вопрос — какой бюджет. Через два дня я смог на этот вопрос ответить, и проект получил финансовую поддержку. Осталось договориться с залами, с музыкантами и осуществить свою давнишнюю мечту — представить то, что я делал на протяжении последних тридцати лет и что мне наиболее интересно на сцене. От жанра камерной музыки до симфо-рока. Каждый концерт представлял определенный жанр, репертуар каждого ни в чем не повторял предыдущий. Так что теперь я тешу себя формулировкой — фестиваль моей музыки. В свое время мне как-то запали в душу подобные концерты Пендерецкого, Гии Канчели… Когда музыка начинается и долго не кончается — в этом что-то есть. Вот я себе и придумал — пять концертов на самых разных площадках — от Малого зала филармонии до Большого зала А.Хачатуряна.
— При всей своей «многофункциональности» ты начинал с рок-музыки, которая, и это уже очевидно, у нас не сильно привилась. 50 лет для рок-музыканта в Армении — это много или мало?
— Вообще-то сам жанр именно пятьдесят лет и насчитывает. Так что в этом смысле я себя ощущаю идущим параллельно. Конечно, все начиналось с рок-музыки, да в общем-то и продолжается. И в череде этих концертов два были чисто роковые. Один — прогрессивной музыки, инструментальный, а второй — наиболее часто играемый и, наверное, наиболее любимый — это акустический рок. Плюс к этому я представил сразу два своих цикла — на стихи Размика Давояна и Комитаса. Эти несколько месяцев я нахожусь в таком творческом, совершенно эйфорическом состоянии — какие пятьдесят лет! Это большое счастье — оказаться в таком ритме и темпе сценической жизни. Колоссальное счастье — общаться с таким количеством талантливых музыкантов, которые еще, слава богу, есть. Это опыт общения с большими коллективами. В этом цикле я играл с Национальным камерным оркестром, участвовал хор «Шогакат», с которым я сотрудничаю с 2000 года, рок-музыканты, с которыми я опять же играю уже пятнадцать лет. И вот финальный концерт, который состоится при участи Национального филармонического оркестра под руководством Эдуарда Топчяна.
— А у этой эйфории нет послевкусия — в смысле мучительно больно за не столь интенсивно-масштабно прожитые годы?
— Устроить такой марафон с налету невозможно. К этому надо прийти, для этого надо созреть. А в отношении концертной деятельности, по-моему, интенсивнее меня никто не живет. Все предыдущие годы у меня практически раз в две недели был концерт, но на клубном уровне. А на этот раз я выхожу на разные сценические площадки, и схема была выстроена так, чтобы полностью им соответствовать. То есть если камерный концерт — это Дом камерной музыки. Если это песни на серьезные стихи — он был в Малом зале. Чтобы все было адекватно. Здесь очень важно соответствие формы и содержания. Вообще то, что содержание не облекается в соответствующую форму, — это наша самая большая проблема. Именно поэтому я не могу найти музыкального менеджера, который будет заниматься всем тем, чем на данном этапе занимаюсь я. Потому что, если говорить о нынешнем цикле, все — начиная с полиграфии и ролика для телевидения и заканчивая изготовлением партитур — пришлось делать самому.
— Ну это твой характер перфекциониста, ты же не хочешь сказать, что нет таких людей — при наличии денег?! Наверное, просто не ставил задачу обзавестись продюсером…
— Я давно понял, что мне легче сделать самому, чем сидеть и объяснять кому-то чего я хочу. И потом, если бы пришлось грузить всем этим чужие плечи, надо было собирать команду, офис… Тогда бюджет был бы астрономический. Я не только ставил задачу — я пытался нечто подобное проделать. Помнишь фестивали Gaudeamus — я выступал как арендатор, как артистический директор… В стране, где нет четко сформированных сфер взаимодействия — ведь тут даже грузчики должны быть специальные, которые знают, как надо перевозить музыкальную аппаратуру, — всех этих людей надо создавать. Если ты это делаешь исключительно для себя — это беспредметно. Значит, надо создавать какую-то индустриальную модель, которая работает не только на тебя, но и на кого-то. Но в этом случае мне бы пришлось тратить на это дело восемьдесят процентов своего времени, чего я себе позволить не могу. В моей жизни были уроки, которые научили меня, что значит бесплодно потраченное время. Поэтому без колебаний и сомнений с 1997 года я занимаюсь только музыкой и больше ничем. Какие бы предложения и возможности ни открывались, понимаю, что время дороже.
— Вот сейчас на твоем концерте акустической музыки был аншлаг. Но аудитория какая-то нецелевая. Реагирующее меньшинство и растерянное большинство…
— Это положение, связанное не только с роком. Такое же положение и в сфере песенной, и в инструментальной музыки и даже академической. А самое главное — формы, которые находятся на пересечении жанров. Говорить о каком-то глобальном процессе не приходится. Во всяком случае на протяжении последних двадцати лет были ребята, которые входили в эти воды — и выходили. Рок ушел в андеграунд, но если походить по клубам, еще можно что-то услышать. Вот приведу свежий пример. Тридцатилетие «Сепультуры», в рамках тура они приезжают в Ереван. Ползала! «Сепультура» — это совершенно знаковое явление. И если оно не собирает в столичном городе один зал на шестьсот мест, это уже серьезная симптоматика. Конечно, говорить, что у жанра есть армия почитателей, не приходится. Есть какие-то сегменты меломанов, которые имеют какие-то свои локальные пристрастия. Но говорить о глобальном движении армии почитателей рока, или академической музыки, или поэтической песни, песни на хорошие стихи, а уже тем более симфо-рока, просто невозможно. Но это не значит, что ты не должен этим заниматься.
— Ты вообще много чем занимаешься, чем заниматься здесь и сейчас, кажется — безумство храбрых…
— Стараюсь держать все это в определенном балансе, мотивация работает так, чтобы все представлять равноценно. Даже когда работал по клубам, старался держать этот баланс. Естественно, за исключением камерного жанра или смифо-рока, которые там просто не помещаются. Но одно дело в клубах — там зрительские места строго ограниченны. И восемьдесят процентов групп, заходя в клуб, уже никогда оттуда не выходят. На этап концертных площадок пробиваются буквально единицы. В «белом» мире ты работаешь на клубном уровне, тебя замечают и вытаскивают на большую сцену. У нас все наоборот. Я начал выступать на сцене, потом последние пять-десять лет у нас возникла клубная культура, а у меня, как и у любого музыканта, занимающегося рок-музыкой, ностальгия была гигантская — клуб это очень сладко… Мы отыграли там на все сто процентов. Клуб — это в хорошем смысле слова интим, реальная близость зрителя, реально все по-честному должно быть, потому что они слышат каждый нюанс, слышат твое дыхание, смотрят на твои пальцы с расстояния двух-трех метров. Но это тоже кончается. Я это сделал, исчерпал свой интерес и успокоился. И тогда пришла идея привести все к определенному номиналу, самому перед собой отчитаться.
— Если правда, что реализация всех идей и стремления попробовать себя во всех жанрах — секрет творческого долголетия и вечного драйва — это про тебя. Но вот ты говоришь — «самому перед собой отчитаться». То есть на оценку со стороны не рассчитываешь?
— Разделение на жанры — оно настолько условно… Мы вгоняем в жанровые рамки то, что делаем, для того, чтобы быть легко классифицируемыми, опознаваемыми. Ведь неподготовленный зритель — он и так не очень хорошо разбирается, особенно когда что-то представляешь в новой форме, он не может себя правильно соотнести с тем, что слышит. Он начинает искать параллели. Если ему не подсказать… Поэтому я как бы сознательно прибегаю к этим условным делениям. Это последнее дело — сегодня разделять что-то на жанры. Современная музыка — колоссальный ресурс, в котором есть все, начиная от древнейших фольклорных веяний и кончая последними инновационными технологиями. Когда ты весь этот масштаб имеешь в поле своего зрения и относишься к нему как к возможности эстетического воспитания… Но это вопрос в первую очередь семейного воспитания. Если ребенок дома слышит рабис, как ему перейти к классике или року — это какую же колоссальную работу над собой надо проделать! На это способны очень немногие. У нас бескультурье понемногу становится нормой жизни, поэтому имеем то, что имеем. Я даже билеты на эти концерты распределяю — половину отдаю на кассу, а половину зала приглашаю, чтобы были какие-то свои. И даже по ходу дела объясняю какие-то вещи из музыкантской кухни. Такое параллельное культуртрегерство. Кстати, на концерте, который прошел в Малом зале, было много школьников, и это было замечательное общение. На это поколение вся надежда. А быть в наше время и в наших реалиях свободным художником в любом случае достаточно сложно. Был период, когда я очень активно выступал по поводу статуса свободного художника в прессе. Мне казалось, что можно решить вопрос директивно — принять соответствующий закон. Но оказалось, что кроме меня никого этот вопрос не волнует, и стало понятно, что лбом стены не прошибешь.
— Это разговор долгий и бесплодный. Лучше ответь, ты как-то систематизируешь свои творческие порывы? Как происходит переход от Маштоца к року или от музыки кино к игре в клубах?
— Это зависит от времени года. Ты смеешься, но это факт. В холодное время года я запираюсь в студии, и это в основном работа, связанная с кино. Вот сейчас у меня два анимационных проекта — один Нары Мурадян, второй молодого режиссера из Санкт-Петербурга Бориса Атаянца. И все свои альбомы я писал зимой. Зимой это можно делать неторопливо — никто на концерты не стремится. А потом начинается весна, все пробуждается, пробуждается твоя тоска по публике. Будучи медиком по образованию, я когда-то вывел для себя эту сентенцию — концертная деятельность в нашей стране, как грипп, носит сезонный характер. Шутка! А вообще последние двадцать лет я живу в этом режиме.
— Вот сейчас отыграешь последний, юбилейный концерт, а потом наступит «после бала». Не страшно?
— С чего бы? Сейчас готовлю альбом — каждый год стараюсь выпустить новый диск. И уже сейчас во мне варится следующая концепция — концерт, в котором будут представлены альфа и омега армянской музыки, по крайней мере в моем видении. Ночной концерт в Звартноце. В первом отделении — шараканы Маштоца в моей обработке, во втором — Комитас, «Десять откровений». Даст бог, концерт в Большом зале пройдет успешно. И уже есть над чем думать и чем заниматься.