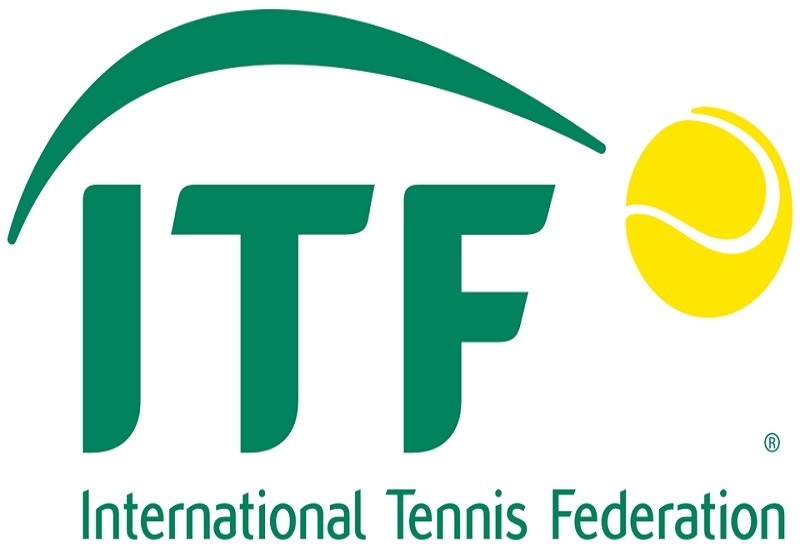Если исходить из факта несомненной осведомленности Ильхама относительно «несовместимости» армянских и азербайджанских позиций по Нагорному Карабаху, то его ультимативное обращение могло иметь только одного адресата – мировая общественность. Иными словами, его заявление – в известной степени зондаж международной политической почвы, так сказать, «в преддверии вторжения». В определенной мере это и вызов декларативным заявлениям минских сопредседателей о недопустимости возобновления войны, индикатор прочности всякого рода «международных гарантий».
Ультиматум Ильхама в данном случае никак не был ориентирован на «внутреннего потребителя». В конце концов, Азербайджан – это авторитарное государство, в котором «жить стало лучше, жить стало веселей» и где «от песков до каспийских морей – наша армия всех сильней». Причем авторитаризм там только усугубляется, и, наверное, недалек тот день, когда в сознании «благодарного народа» лики отца и сына сольются воедино.
Ультиматум азербайджанского президента – детище нынешнего «регионального времени», исчисление которого началось с грузинской войны. Именно после августа 2008 года Ильхам окончательно рассеял все свои сомнения относительно того, что именно война остается реальным способом решения вопросов. Несмотря на многочисленные заявления о том, что «августовские события вскрыли полную несостоятельность урегулирования споров посредством войны», многими (и не в последнюю очередь азербайджанским президентом) осознается почти обратное: «югоосетинский вопрос вполне мог быть разрешен в течение нескольких дней, если б не Россия».
Именно этим и объясняется «информационный взрыв» азербайджанского интереса к некоторым новым положениям российского законодательства. В начале месяца президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне». Согласно одной из поправок, российская армия может быть использована в стране, обратившейся к России за военной помощью («отражение или предотвращение вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой»). Следует полагать, что именно этот вопрос (позиция России в случае нападения Азербайджана на Нагорный Карабах) больше всего и волнует азербайджанское руководство.
Азербайджанское агентство day.az в этой связи замечает: «Поправки таят в себе определенную опасность для Азербайджана. Несмотря на то, что они были внесены в связи с вводом российских войск в пределы независимого государства Грузия в августе прошлого года, однако к кому, как не к России обратится Армения в случае силового решения карабахского конфликта?!»
Вместе с тем алиевское заявление – детище и подписанных армяно-турецких протоколов, которыми Анкара и Ереван «подтверждают свои… обязательства уважать принципы равенства, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела других государств». Расчет Ильхама прост: военные действия в Нагорном Карабахе — это «контртеррористическая операция» в международно-признанных границах Азербайджана, следовательно – внутреннее дело «другого государства», в которое Армения обязалась не вмешиваться. Более того, согласно протоколам, стороны осуждают «любые формы терроризма, насилия и радикализма вне зависимости от их причин и обязуясь воздержаться от стимулирования и терпимого отношения к подобным действиям, сотрудничать в борьбе против них». Не может быть никаких сомнений в том, что в случае возобновления войны азербайджанское руководство будет апеллировать к этим протокольным положениям.
Вместе с тем, признавая принципы «территориальной целостности и нерушимости границ», Ереван, с точки зрения новой азербайджанской стратегии, лишается правовой возможности обращаться за помощью к третьей стране (той же России), так как все происходящее в Нагорном Карабахе пока не может быть истолковано в качестве акта военной агрессии против Республики Армения. Таким образом, появление алиевского ультиматума полностью вписывается в контекст последних развитий в регионе, ни в коем случае не является абстракцией, но вместе с тем в первую очередь рассчитано на зондаж международной политико-правовой почвы и выявление степени прикладного значения некоторых новых постулатов.