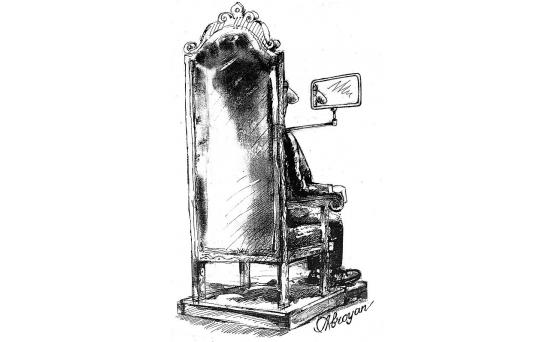«ТАМ ЧЕЛОВЕК СГОРЕЛ…»
К 85-летию Альберта НАЛБАНДЯНА
Имя известного современного армянского поэта-переводчика Альберта Налбандяна стоит в одном ряду с именами самых лучших и самых прославленных пропагандистов и популяризаторов армянской поэзии. Он – автор без малого сорока переводных книг. И это не считая десятки антологических сборников поэзии, авторских книг отдельных поэтов, в которых составляющей частью являются его переводы. Своего рода обобщением его более чем шестидесятилетней плодотворной творческой деятельности стало издание большого однотомника «Состраданье. Избранные переводы», в которую он включил как переводы из классической и современной армянской литературы, так и переводы с других языков – латышского, узбекского, грузинского, испанского, французского.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ ЭТИХ ПЕРЕВОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ УМЕНИЕ УВИДЕТЬ ОРИГИНАЛ сквозь призму «деревянного» подстрочника. В этом контексте считаем важным отметить, что большинство переводов, выполненных по подстрочникам, являются авторизованными, то есть они создавались в сотрудничестве с авторами стихов-оригиналов. В результате консультаций и совещаний с авторами перед читателем предстали добротные, хорошие русские стихи, что, согласитесь, не столь уж частое явление для переводной поэзии. Не это ли главный критерий художественных достоинств, высокого качества перевода? Может ли быть что-то важнее этого?
Переводческая деятельность Альберта Налбандяна – это целая эпоха в истории нашего поэтического перевода, в истории пропаганды и популяризации классической и современной армянской литературы.
Когда осенью 1973 г. Альберт Налбандян переехал из Донбасса в Ереван, наиболее активными и успешными переводчиками армянской поэзии были Алла Тер-Акопян, Седа Вермишева, Нелли Саакян, Вруйр Баласан и Георгий Кубатьян. Но уже первые публикации Альберта Налбандяна, в которых он проявил себя талантливым и состоявшимся поэтом-переводчиком, со всей очевидностью показали, что в замечательной плеяде популяризаторов армянской литературы он будет, так сказать, первым среди равных, что именно он будет задавать тон в обозримой перспективе. А в последующие десятилетия он станет не просто деятельным, активным участником, а одним из организаторов литературного процесса в Армении.
Нам уже приходилось утверждать, что переводы Альберта Налбандяна из грузинской, узбекской, латышской и армянской поэзии даже по самым строгим меркам могли бы составить несколько внушительных, увесистых томов и вполне органично смотрелись бы, скажем, в книжной серии «Мастера поэтического перевода». Его переводы по близости оригиналу и своему художественному уровню стоят в одном ряду с лучшими переводческими работами Наума Гребнева, Евгения Солоновича, Павла Грушко, Анатолия Гелескула.
Выделять, обособлять в переводческой практике А. Налбандяна каких-то отдельных авторов, отдавая одним переводам преимущество перед другими – дело непростое и неблагодарное. Без субъективизма здесь никак не обойтись. Более того, с таким подходом и такой оценкой, скорее всего, не согласятся многие читатели и сам автор книги. Но все же для нас ближе его переводы из Ваана Терьяна, Давида Ованеса, Ованеса Григоряна, а также замечательных современных латышских поэтов Арманда Мелналксниса и Леона Бриедиса. В качестве яркой иллюстрации того, что в лучших своих переводах А. Налбандян добивается не только максимальной смысловой и интонационной точности, но и эквиритмии, можно привести стихотворение В. Терьяна «Песня расставания»:
Ты взглянула с усмешкой игривой
И исчезла в дали голубой.
Я остался в тиши сиротливой,
Я заплакал, унижен тобой…
И душа моя в мире беззвёздном –
Точно в море затерянный чёлн;
Ураганом подхваченный грозным,
Стал он жалким игралищем волн.
Ни маяк и ни тихая пристань
Не забрезжут мне вспышкой огня.
Только ветер грохочет, неистов,
Только мгла обступает меня…
ДУМАЕТСЯ, МЫ ПОПАДЕМ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО, ЕСЛИ СТАНЕМ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО БУДЬ КНИГА избранных переводов Альберта Налбандяна издана лет сорок назад, в «добрые старые времена», когда интерес к литературе, к поэзии был по-настоящему велик и поистине всенароден, когда крупные газеты и журналы печатались миллионными, а книги – стотысячными тиражами, то она произвела бы настоящий фурор, стала бы заметным и важным событием в литературной жизни необъятной многонациональной страны, стала бы успешной во всех отношениях, в том числе и коммерческом, стала бы настольной книгой для сотен тысяч любителей и ценителей поэзии. Более того, она наверняка стала бы иллюстративным материалом для спецкурсов художественного перевода во многих университетах.
Альберт Налбандян, говоря шахматным языком, умеет находить не просто очень сильные, а самые лучшие, единственные, этюдные решения, никогда не идет на поводу у рифмы или ритма, благополучно избегая, с одной стороны, неуклюжести, инверсий и косноязычия, а с другой - гладкописи, свойственной едва ли не подавляющему большинству переводных стихотворений, особенно, когда оригиналы – традиционные, рифмованные силлабо-тонические стихи.
В своих переводах Альберт Налбандян – воспользуемся выражением Б. Пастернака – «не ищет выгод», не старается ретушировать текст и тем самым понравиться, угодить художественным вкусам и пристрастиям самых требовательных, взыскательных и придирчивых читателей.
В чём именно нам видятся главные достоинства переводов Альберта Налбандяна? В том, что он не позволяет своей творческой индивидуальности «своевольничать», активно вмешиваться в тексты-оригиналы, «редактировать» и «ретушировать» их. Это большой соблазн, которого не сумели избежать многие известнейшие, выдающиеся поэты-переводчики…
Непременно найдутся и такие читатели, для которых лучшие образцы переводческой деятельности станут «мастер-классом поэтического перевода», которые будут не просто просматривать и перелистывать их, а изучать, читать с карандашом в руках, делая пометки особенно понравившихся, запавших в душу строк и строф. Конечно, таких читателей будет не очень много, намного меньше, чем хотелось бы, но все они, как говорится, «в тельняшках».
В теории художественного перевода расхожим является утверждение, что каждый удачный перевод является счастливым исключением. Исходя из этого постулата, итоговую книгу избранных переводов А. Налбандяна можно считать «собранием счастливых исключений».
Переводы Альберта Налбандяна – это вдохновенные и безукоризненные в версификационном отношении, полноценные русские стихи, которые не нуждаются в снисходительности и скидках на перевод. Ведь совершенно очевидно, что посредственные стихи по определению не могут считаться хорошим переводом. В восьмистрочной миниатюре А. Мелналксниса можно увидеть ёмкую формулировку смысла, сути и назначения творческого труда и поэзии. Лучше просто не скажешь.
Зря мучаюсь и бьюсь – не удаётся
Работа. Карандаш отточен зря.
Не думается мне. И не живётся.
Не пишется, короче говоря.
Все уничтожь. Уйди, коль в сердце пусто.
Уж лучше умереть, чем хворь копить.
Таков от века чёрствый хлеб искусства –
Ни за какие деньги не купить.
В ПЕРЕВОДАХ АЛЬБЕРТА НАЛБАНДЯНА НЕ ВСТРЕТИШЬ СТИЛЕВЫХ КОРЯВОСТЕЙ И ШЕРОХОВАТОСТЕЙ, языковых калек, рыхлых синтаксических конструкций, неудобочитаемых инверсий, насильственно втиснутых в строку слов. И уж тем более не заметишь в них «армянского акцента», то есть всего арсенала чуть ли не обязательной атрибутики переводной поэзии. Напротив, его переводам дышится свободно, они читаются очень легко и даже создают иллюзорное ощущение, что были созданы столь же легко и просто, без больших потуг. Таким и должно быть настоящее стихотворное произведение: читатель не должен догадываться о творческих муках, которые испытывал автор, отыскивая нужное слово, нужный эпитет или метафору, единственный и неповторимый, опять же выражаясь шахматным языком, этюдный интонационный штрих.
Альберта Налбандяна никак не назовешь «баловнем судьбы». «Рябчики и ананасы», «ананасы в шампанском» - это не про него. Переводчики поэзии его уровня и калибра, как правило, преуспевают по жизни, купаются в лучах славы, диктуют издателям свои условия, разъезжают по миру, не пропуская ни одного сколько-нибудь престижного литературного форума или фестиваля, коллекционируют лауреатские звания и международные премии…
Что касается Альберта Мамиконовича, то ему уже без малого сорок лет приходится практически в одиночку бороться за выживание своего детища, «Литературной Армении». При этом с каждым годом осадное кольцо вокруг журнала сужается. Нам представляется верхом несправедливости то, что в бюджете республики находятся средства на многомиллионные премии правящей «номенклатуре», высокооплачиваемым чиновникам, которые, по нашему убеждению, в подавляющем большинстве находятся не на своём месте и не заслуживают даже своей зарплаты, но при этом не находится очень скромных денежных средств на содержание единственного в Армении русскоязычного литературного журнала. По иронии судьбы, решение финансовых проблем журнала зависит от людей, которые не имеют прямого отношения к вопросам армянской культуры и литературы. С «легкой руки» пришедшего с улицы правительства на уровне министерства культуры «Литературной Армении» отказано в государственной субсидии – на том основании, что это – «иноязычное издание». И - удивительное дело - рука министра, подписавшая эту «подлянку», не только не отсохла, но и не дрогнула. И язык, сообщивший об этом отказном решении, не отвалился. И вот теперь редактору журнала, пропагандирующего армянскую литературу и выводящего ее на новую орбиту, приходится встречаться с потенциальными спонсорами и попечителями, обращаться с циркулярными письмами к коммерческим организациям, состоятельным людям, меценатам, олигархам, благотворителям, терпеливо уговаривать и убеждать их, разъясняя им аховую ситуацию своего журнала и важность полнокровного его функционирования. Для сравнения заметим, что "Литературный Азербайджан" выходит в свет ежемесячно и без единого cбоя, не испытывает никаких финансовых затруднений, а редакция - просто благоденствует.
ТО, ЧТО «ТРУДЫ И ДНИ» АЛЬБЕРТА НАЛБАНДЯНА ПРОШЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В «ЛИТЕРАТУРНОЙ АРМЕНИИ» и что жизнедеятельность журнала тысячами нитей связана с его главным редактором, - это абсолютно верно, и с этим нельзя не согласиться. И всё же «золотым веком» Альберта Налбандяна нам представляется тот непродолжительный период в середине 1980-х гг., когда он, возглавляя русскую редакцию издательства «Советакан грох», осуществил множество важных, замечательных проектов. Именно в эти годы были изданы однотомники избранных произведений Мисака Мецаренца, Даниэла Варужана, Рубена Севака, Григора Зограба, сборники произведений русскоязычных армянских писателей «Лоза и камень» (в двух книгах), библиотечная серия в шести книгах «Современный армянский рассказ», сборник произведений современных армянских поэтов «Дух родного крова»… Мы перечислили все эти издания по памяти и вполне могли упустить многие не менее важные проекты. Добавим, что в эти же годы он активно переводил классиков новой армянской литературы Мкртича Пешикташляна и Иоаннеса Иоаннисиана, зарубежных поэтов. Очень важно, что во всех этих начинаниях Альберт Мамиконович принимал самое деятельное участие не только как редактор и составитель, но и как генератор идей и один из авторов-переводчиков. И при этом успевал сотрудничать с крупнейшими московскими издательствами.
Считаем необходимым отметить, что одним из важнейших достоинств и преимуществ А. Налбандяна как переводчика поэзии является его ортодоксальность, «всеядность». Как большому мастеру версификации ему подвластны любые стихотворные формы, - будь то сонет или газелла, триолет или айрен, белые стихи или верлибр, - причём очень трудно сказать с большой уверенностью, что он отдаёт явное предпочтение какой-то одной из этих форм. Укажем в этой связи еще один немаловажный момент: исходя из целесообразности, в отдельных случаях переводчик идет «против течения», нарушая форму оригинала. Примером могут послужить белые стихи арцахского поэта Вардана Акопяна, которые в русском пересоздании стали традиционными рифмованными, явно выиграв при этом в естественности звучания. Но это, конечно, исключение из правил.
Лет двадцать назад, находясь в отличной форме, Альберт Мамиконович как-то сказал, что чувствует себя способным перевести любое стихотворение. В этом не было ни тени бахвальства и самолюбования. Скорее, это была уверенность в своих силах, в своих возможностях. Во всяком случае, переводчик неоднократно доказывал - не на словах, а на деле, что он, говоря словами П. Вяземского, «в бореньях с трудностью силач необычайный».
Борис Пастернак был убеждён, что для творческой личности предпочтительнее быть недооценённым, чем переоценённым. Что касается Альберта Налбандяна, то он, по нашему глубокому убеждению, до сих пор остаётся недооценённым. В определенном смысле он – заложник своей природной скромности, застенчивости. Он из тех людей, которые не любят суеты, сутолоки и шума, не любят позировать перед телекамерами, не любят «купаться в лучах славы», не любят заздравных речей. Он – ярко выраженный интроверт. Он чувствует себя уютно и комфортно в кабинетной тиши, читая свои любимые детективные романы или играя в шахматы с друзьями.
Альберт Налбандян - один из самых эрудированных людей, с которыми нам доводилось общаться. Никто не может сравниться с ним в знании как классической, так и современной мировой литературы, в особенности – поэзии. Тем более это относится к армянской литературе, истории и культуре.
Ованес Туманян говорил, что переведенное стихотворение – это роза под стеклом. Розу видишь, но аромат ее ощутить не можешь. Что касается Альберта Налбандяна, то для него в каждом переводе сверхзадачей является передача, пересоздание этой розы не только во всей ее красочности, во всей цветовой палитре и со всеми штрихами, нюансами и оттенками, но и со всеми интонационными особенностями, психологической ситуативностью, то есть с ее доподлинным ароматом.
Перевод поэзии стал для Альберта Налбандяна тем самым алтарем, на который он возложил всю свою сознательную жизнь.
Сусанна ОВАНЕСЯН, доктор филологических наук,
Гурген БАРЕНЦ
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2025-06-19 11:30
Кабан решил Заняться икебаной. Навязывал цветам Свой вкус кабаний. Цветы безропотно Терпели беспредел: Кабан строптивых Просто брал – И ел. «А где мораль?» – Читатель чешет ухо. Мораль уже давно В кабаньем брюхе. *** Что может правда Против большинства? Ложь заручается Поддержкой легионов. Во всех голосованьях Ложь права, Творит и редактирует Законы.
-
2025-06-14 10:26
*** Ворона, пролетая, вдруг нагадила На голову дешевки-шантажиста. Стал он царьком нежданно и негаданно, Но было ясно: что-то здесь не чисто.
-
2025-06-04 10:20
Ещё бесславны, но уже ублюдки. Бесславные ублюдки. Пачкуны. Для них добро и совесть - предрассудки. В делах и мыслях - гены сатаны.
-
2025-05-08 10:36
Беда пришла обычной тихой сапой: Шут под шафе решил, что он король, И сняли шляпы перед ним растяпы, И взялись защищать его горой.